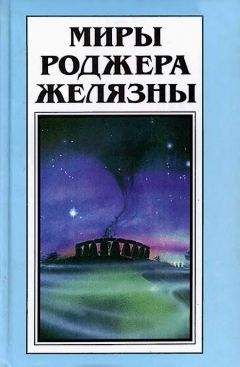Робин Кори - Страх. История политической идеи
Личность, по природе, не стремится к созданию морали, государственного строя да и к чему-либо вообще; она едва способна выдержать вес своего собственного существования. Согласно Локку личностью вплоть до разложения управляет склонность к удовольствиям. «Когда человек совершенно доволен своим положением… какие усилия, какое действие, какое стремление тогда остается, помимо желания продолжать пребывать в нем?»
Ослабленная довольством личность утратила волю к созидательным действиям и к воплощению мировых истин. Для Бёрка естественным состоянием личности было даже не довольство, которое по крайней мере предполагало наличие некоторого удовольствия в занятиях человека. «Человеческий ум, — писал Бёрк, — часто, а я думаю, и по большей части, находится в… состоянии безразличия». Это безразличие грозит «состоянием покоя и бездействия», в котором «все части нашего тела… впадают в расслабленность, которая лишает члены не только способности выполнения их функций, но лишает энергетического тонуса, требуемого для поддержания естественных и необходимых секреций». Результатом становится «меланхолия, уныние, отчаяние и часто самоубийство»25. В двух словах, личность очень быстро может перестать быть личностью — при этом совершенно самостоятельно. Задолго до того, как Фуко предсказал конец человека, такие аналитики, как Бёрк, провели его вскрытие.
Эти новые идеи порядка, морали и личности — и их следствия, признаки небытия и исчезновения личности — превратили мир, независимо от происходящего конфликта или насилия, по сути, в небезопасное и ненадежное место; личность, вне зависимости от ее физических предрасположенностей и ограничений, оказалась открытой для внешней манипуляции, контроля и разрушения под натиском неотступных требований других. Теперь личность и общество попадали в вечную осаду угрозы уничтожения, создающую благодатную почву для страха — страха потери, анархии, личного и политического «небытия»26. Токвиль писал: «Такое положение неизбежно обессиливает душу и ослабляет струны воли, подготавливая людей к неволе. И они не только позволят отнять свою свободу, но часто сами же и передадут ее в чужие руки… Когда нет властей в религии или политике, люди быстро пугаются безграничной независимости, с которой они сталкиваются. Они обеспокоены и озабочены всеобщим беспрестанным движением»27. Необходимо было найти что-то для объединения личности и общества против этих угроз уничтожения. Этим чем-то оказался страх. Не страх небытия, который был таким обессиливающим — «этот вялый, праздный ужас, — как писал Токвиль, — от которого падают духом и лишаются воли», но страх этого страха, «спасительный страх, который заставляет людей быть бдительными и ценить свою свободу»28. Как сказал бы Франклин Рузвельт, позаимствовавший идею у Торо, а тот — у Монтеня: «Единственная вещь, которой нам надо бояться, есть сам страх — невыразимый, безрассудный, беспочвенный, парализующий необходимые усилия по превращению отступления в продвижение»29. Калечил сам по себе страх, страх же страха восстанавливал и оживлял. Только второй обладал нужной энергией для продвижения личности и общества вперед.
Вооружившись страхом, личность и общество были защищены не только от внешних и внутренних врагов, но также от собственной склонности, почти врожденного желания к растворению в подобном супе безразличия, о котором говорил Бёрк.
Такие идеи не были ограничены утонченной философской сферой. Со временем они проникли в работы популярных писателей и влиятельных журналистов. На пике холодной войны, например, Артур Шлезингер написал «Жизненный центр». Будучи, по всей видимости, либеральным призывом к оружию против Советского Союза и американского коммунизма, «Жизненный центр» в действительности оказался диагнозом отчаяния и тревоги, сходной с той, что провозглашалась Токвилем в работе «О демократии в Америке». «Западный человек середины двадцатого века, — писал Шлезингер, — напряжен, не уверен, не устойчив. Мы смотрим на нашу эпоху как на беспокойное, тревожное время. Основы нашей цивилизации, нашей уверенности разрушаются у нас под ногами, и привычные идеи и учреждения исчезают, когда мы обращаемся к ним, как тени в удаляющихся сумерках». Хотя шел лишь 1949 год и Советский Союз собирался взорвать атомную бомбу, а Соединенные Штаты были на грани корейской войны, Шлезингер указывал на то, что самой большой угрозой Соединенным Штатам была угроза не внешняя, а внутренняя, не политическая, а духовная и психологическая. «Кризис свободного общества принял форму международного столкновения между демократиями и тоталитарной властью; но этот факт не должен заслонять от нас того, что в сущности это был внутренний кризис». Решение? Превратить конфликт между Советским Союзом и Соединенными Штатами в испытательный полигон для личности и общества. Через противостояние внешнему врагу русские и американцы могли трансформировать свою экзистенциальную тревогу в сфокусированный и стимулирующий страх. «Ударим по исторической дилемме», — убеждал Шлезингер, подразумевая страхи бессмысленности и отчаяния в рамках проблемы между Соединенными Штатами и Советским Союзом30.
Ведя речь о политическом страхе, современные исследователи редко говорят лишь об опасностях, с которыми может столкнуться любой человек или общество. Вместо этого они подходят к опасности как к концепции личной потери и политического небытия. Хотя многие авторы отвергают страх во имя свободы, разума либо Просвещения, симптомы деградации личности и политического небытия вынуждали и их поддаться страху часто во имя тех же самых ценностей. Но если страх служит посредником между личным и коллективным спасением, то его цели должны соответствовать или походить на небытие, которое, как считают аналитики, не дает покоя современной личности и обществу. Так как только если страх скрывается за напряженностью в политике и изяществом цивилизации, он обладает титанической силой, необходимой для возвращения требуемой и принадлежащей по праву личности и обществу энергии.
Но есть и вторая причина, по которой писатели и политики приняли политический страх и поняли его объекты как неполитические. Это в меньшей степени относится к предположениям современных мыслителей, чем к императивам политического либерализма, которые особенно сильны в Соединенных Штатах.
Современный либерализм — сложное учение, которое непросто свести к лозунгам или звучным фразам, но которое, тем не менее, строится вокруг скептицизма сильного централизованного правительства. Поскольку именно такие правительства, в представлении либералов, «с их непреодолимым стремлением убивать, калечить, внушать и вести войны», приходят с единственной целью — внушить страх гражданам.
«Пока источники социального угнетения действительно многочисленны, — настаивает Шкляр, — ни один из них не смертелен, как тот посредник современного государства, который имеет в своем распоряжении уникальные ресурсы физической мощи и убеждения»31. Для противостояния правительствам, вселяющим подобный страх, — не всем, но лишь тем, что делают из страха обязательное условие повседневной жизни, — либералы рекомендуют ряд предписаний: законность, толерантность, правительство фрагментированной власти и плюралистическое гражданское общество. То есть многие из элементов нашей либеральной демократии, которыми, как краеугольными камнями американской свободы, дорожат граждане, лидеры, интеллектуалы.
Эта доктрина представляла собой проблему, особенно в Соединенных Штатах. Несмотря на все ограничения, которые наша Конституция накладывает на сильное, централизованное правительство, никто не сможет отрицать, что мы были свидетелями периода расцвета политического страха. Начиная с Законов об иностранцах и подстрекательстве к мятежу конца 1790-х до репрессий против аболиционистов в начале XIX века до антииммигрантской и антилейбористской паники конца XIX века и до разнообразных красных угроз века XX, Соединенные Штаты едва ли были свободны от использования страха как формы запугивания. Известным аналитикам этих событий было непросто примирить произошедшее с нашими либеральными политическими институтами. Как им это удалось? Посредством нахождения источников политического страха за пределами политической сферы — в психической тревожности и культурных страхах беспокойного населения.
Рассмотрим пример маккартизма. Маккартизм был многомерной системой политических репрессий, но, пожалуй, одним из его важнейших источников были объединенные усилия крупного бизнеса, Республиканской партии и ФБР по подавлению движений организованных лейбористских сил и прогрессивных левых в конце 1940-х. Вопреки общенародным убеждениям маккартизм действовал по планам самого государства и общества, которые, в представлениях либералов, восхвалялись и рекомендовались как противоядие от страха. Отдельные законодатели, вроде сенатора Джозефа Маккарти, преуспевали благодаря фрагментированному характеру власти Конгресса, в котором лидировали отцы-основатели[4].