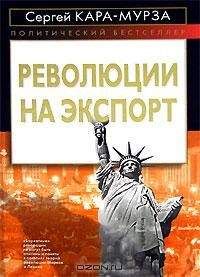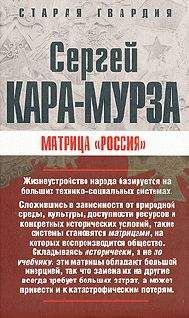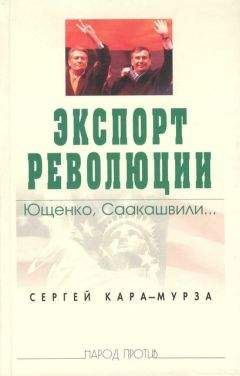Сергей Кара-Мурза - Статьи 1998-1999 г.
Конечно, в СССР уж слишком все были втянуты в производство, в торговле персонала явно нехватало. Через руки бедных девушек-продавщиц проходила огромная масса товаров. И они выбивались из сил, к вечеру чуть не падали, и людям неудобно. Это по мере возможности можно было бы менять — но ведь не устраивать то, что мы видим сегодня, когда полстраны сидит без дела по ларькам и на углах. Один календарики продает, другая две пары носок. Скажут, это — издержки переходного периода. Нет, товарищи дорогие. На Западе — то же самое, только лавочки там хорошо обустроенные, теплые и уютные. А суть та же — бессмысленная трата человеческой силы и души. И, конечно, огромные издержки, которые ложатся на тех, кто производит полезные вещи.
Я жил в Сарагосе, среднем испанском городе, около полумиллиона жителей. В нем полсотни автосалонов — хорошие помещения, все освещено, куча клерков. Меня это удивляло, я все спрашивал: зачем такие траты? Ведь машины-то одни и те же, десятка два моделей. Собрать их в пару салонов, пусть люди посмотрят, оформят заказ — и все. Нет, надо занять массу людей, в каждой торговой фирме свои маленькие уловки, какие-то мелкие подарки, суета. Наверное, эта чушь, эта видимость выбора людям нравится. Но ведь оплачивается она страшным перерасходом средств и человеческих жизней. И тяжелым трудом тех, кто за сценой, кого здесь и не видно. Даже тех же испанских рабочих, что не могут оторваться от конвейера и должны мочиться прямо в комбинезон, в прокладки вроде толстого «тампакса». Они и живут в стороне, за рекой, в рабочих кварталах. Зато там и повеселей, больше смеха и меньше чопорности. Труд производительный тяжел, а все равно лучше, чем в лавке сидеть.
Жизнь «на рынке» пропитана конкуренцией. У нас мало кто понимает, что это такое. Многие даже думают, что конкуренция мобилизует, придает силы и страсти. Да, она сортирует людей. Но не поднимает лучших, а опускает, затаптывает «слабых» — и слабых вовсе не в главном деле. Я в Испании иногда слушал по радио утpеннюю пеpедачу какого-то священника. Запомнилась одна его простая фраза: «Рыночная экономика сбрасывает с пути не тех, кто ленив или неумел в работе, а тех, кто неспособен топтать товарища». Вот, думаю, нашим бы коммунистам поучиться говорить такими словами.
В отделе университета, где я работал, было несколько аспирантов и молодых преподавателей, которые тоже готовили свои диссертации. Все хорошие друзья, часто собирались за столом. Я им всем помогал, чем мог. Одной девушке помог тему уточнить, хоpошая работа могла получиться, я увлекся, и литературу искал, и доклад ее с ней обсуждал — как это у нас в лабораториях было принято. На одной вечеринке ее не было. И вдруг за столом весь дружный коллектив предъявляет мне претензию: ты слишком много ей помогаешь! Я не понял: что ж тут плохого? Будет хорошая научная работа, всем радость. Нет, нельзя! Все после защиты диссертаций будут добиваться работы, посылать свои личные дела на конкурс, а у нее будет преимущество. Я им всем подставляю ножку. Честно скажу, я был потрясен. Ведь это были ее друзья и подруги. И потом, они же научные работники! Какая может быть наука, если не помогать друг другу?
Потому-то наука на Западе очень дорого обходится. Те американские советологи, которые изучали нашу науку, никак не могли поверить, что советские ученые обходились такими скромными средствами. Искали советологи какие-то тайные источники денег у нашей науки, какие-то закрытые города. А дело просто. Доверие и взаимопомощь, душевная близость в лаборатории всем дает огромную прибавку и в уме, и в творчестве. Коллектив скромных и вроде бы невзрачных наших ученых оказывался мощной силой. То-то наших так переманивали. А теперь сломали у нас этот стержень, и никому наши замухрышки оказались не нужны. Собрали из них сливки, да и то удивляются: где же хваленая русская мысль? Она там у них приувяла. Она привыкла расцветать в любви, а не в конкуренции.
Мы, в массе своей, не понимали, в чем суть нашей советской жизни. Старики, может, понимали лучше нас, но они вымерли, а нам как следует объяснить не сумели. И мы очень много внимания уделяли дефектам и несуразностям (а их достаточно при любом типе жизни), а не замечали главного. Главное нам казалось как бы явлением природы, которое не может исчезнуть по воле Ельцина. Нам не только бесплатный врач и учитель казались чем-то естественным, вроде воздуха и солнца. Мы звонили по телефону за две копейки и за пятачок ехали на метро через весь город. И считалось, что так и должно быть. Мы даже не замечали, что это — часть жизнеустройства, созданного людьми. Что само по себе так не бывает, а если это жизнеустройство сломать, то этого и не будет.
Уже и зарплата наша, небольшая, но вполне сносная, казалась таким же неотъемлемым правом. Как это не дать мне зарплату! Я же должен питаться и кормить детей! Как это «мои проблемы»? Это наше удивление, от которого мы никак не можем опомниться, по инерции идет от нашей жизни в стране как семье. Эта привычка нам сослужила плохую службу, да и сейчас еще не дает взглянуть правде в глаза. Оторопели и никак не соберемся с мыслями.
Ведь все еще можно поправить, надо только понять, чего мы хотим и что невозможно. Чтобы нам в нашей холодной стране тепло и сытно устроиться не семьей, а рынком, надо уморить две трети сограждан. Выморозить Север и Сибирь, распродать землю и месторождения. И тогда те зубастые, что выживут, какое-то время смогут наслаждаться, пока не проедят выручку. А потом и сами друг друга перегрызут.
Давайте, пока мы еще совсем не обессилели, взглянем на вещи трезво и начнем выруливать на тот путь, что предназначен нам судьбой — жить в семье, а не в рынке. Надо только самим признать и молодым объяснить, что в «старую» семью не вернуться и тащить в нее никто не собирается. В каждом поколении семья уже в чем-то другая (да и советский строй в каждом поколении менялся). Бывает, малограмотный и тяжело трудившийся отец порол детей — а своих детей его сыновья воспитывают уже словом и примером. Но если эти сыновья имеют ум и сердце, то поймут, что в главном тип жизни сохранился. Семья есть семья.
Советское жизнеустpойство во многом еще не сломано. Многое еще можно восстановить, надо только самим себе головы пpочистить. И пpежде всего, я думаю, надо отказаться от главных антисоветских тезисов, которые наши левые политики пpиняли, чтобы казаться современными и патpиотичными. Эти тезисы в принципе ошибочны, а значит, никакого выхода из тупика не откpывают.
1998
Хотели рынка труда?
Правительство приняло решение отбирать у предприятий налоги до выплаты зарплаты работникам. Конституционный суд признал это решение законным. Это такой красноречивый факт, что, казалось бы, все встает на свои места в вопросе: что за общественный строй устанавливается в России?
Исходя из этого факта и самой логики рассуждений реформаторов, можно задать риторический вопрос всей нашей либеральной интеллигенции: хоть теперь-то вы видите, что ни о какой рыночной экономике и гражданском обществе и речи не идет? А теоретиков КПРФ спросить: теперь-то вы видите, что государственность, которую пытается создать режим Ельцина, не является буржуазной?
Конечно, миф демократии упал под ударами слов и действий. Это несколько раз зафиксировал Бурбулис. То он сказал, что режим «начал смертельно опасную операцию против воли больного» — с представлениями любой демократии это вещь несообразная. То он признал, что «конституцию протащили через задницу» — подтвердил факт фальсификации результатов референдума. Ну, а танки наемных «государственных террористов» поставили точку. Тот сторонник режима, кто называет себя сегодня демократом — или дурак, или циник.
Но у многих осталось еще утешение, что строится в России рыночная экономика, как при Пиночете. А там, глядишь, Клинтон поможет, попросит наших пиночетов уйти в почетную отставку на хорошую пенсию, а нам зато достанется процветающий капитализм. Сегодня, господа буржуазные утописты, и эта ваша надежда рухнула. То, что сделало правительство (и даже то, что оно подумало), находится в вопиющем противоречии с самыми священными принципами рыночной экономики и гражданского общества.
Назовем эти принципы. Это представление о частной собственности как естественном праве (то есть, государство не имеет права на изъятие этой собственности). Это — «свобода контракта», сделки (то есть, государство не имеет права вмешиваться в законную сделку на рынке, а имеет лишь право взыскать после завершения сделки установленный законом налог). Это — эквивалентность обмена, которая обеспечивает равновесие всей системы рынка.
Каков главный тип сделки, на котором держится рынок и все общество? Это купля-продажа рабочей силы. В этой сделке обе стороны выступают равными партнерами. Рабочий есть собственник особого товара, и обладает он им в силу естественного права частной собственности. Он по контракту на время продает свое тело. Это — центральный акт рыночной экономики, та ось, на которой крутится вся машина.