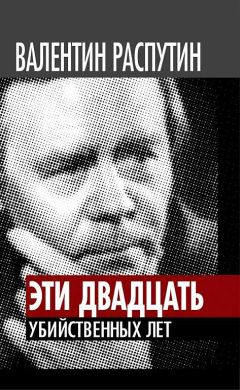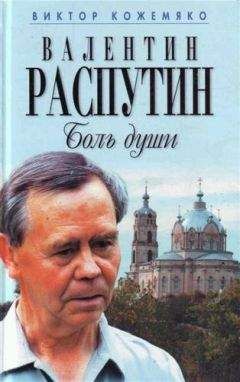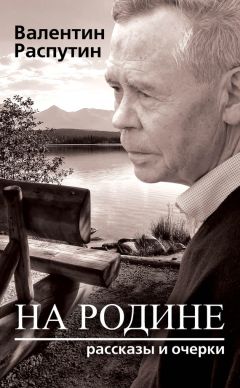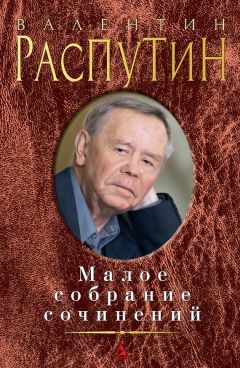Валентин Распутин - Эти двадцать убийственных лет
– Государство освобождает себя от заботы и о культуре, и об образовании. Добрались до высшей школы. Закон об «автономных учреждениях» (АУ), прежде всего, направлен против нее. Автономные – значит, обреченные на частное существование и приватизацию. Отчуждение средней и высшей школы от государства, равно как и отчуждение культуры, продолжается. С одновременным принятием трех законов – о едином госэкзамене, об автономных учреждениях и о продаже памятников культуры в частные руки – государство решительно выходит на оперативный простор безответственности и напоминает ударившегося в бега от своей семьи папашу.
Стыдно за Думу… Она, должно быть, имела какой-то интерес, чтобы подмахнуть эти законы. Неловко и за сенаторов, равнодушно утвердивших их. А ведь это те самые депутаты-парламентарии, которые издевались над советским Верховным Советом, где якобы без размышлений – чего изволите? – вздымались руки. Но там корысти не было, и не за дурное голосовали советские, по крайней мере, не за дурное во внутренней политике. А вы? Вы чьи интересы защищаете, бегая по рядам и нажимая кнопки? Странно и неловко наблюдать, как обсуждение и голосование по важнейшим вопросам нашего бытия, нашего сегодня и завтра, проходят при полупустых залах.
Ну, что же делать… Как сказал бы Иосиф Виссарионович, других парламентариев у нас нет, надо работать с этими.
И не ошибиться в следующих.
Февраль 2007 г.Глава V
Когда отринуты моральные законы
Что же это значит – жить хорошо?
О чувстве добра и взаимопомощи
Виктор Кожемяко: Валентин Григорьевич, минувший год для вас прошел под знаком вашего юбилея. Семидесятилетие – дата существенная. Тут хочешь не хочешь, а обратишься, как говорят, мысленным взором на прошедшее. В своих выступлениях вы говорили о чувстве добра, которое вынесли из военного детства и пронесли через многие годы. О том чувстве, которое в труднейшее время помогало жить нашим людям.
И как-то у вас вырвалось: «Разве можно сравнить с тем, что происходит сейчас?» И дальше: «Все доброе куда-то улетело». Причем из того, что вы говорили, следовало: относится эта утрата не только к быту деревни, но и к писательским отношениям: «Как мы радовались успехам друг друга! Мне кажется, нынче у писателей нет такой радости…» Хотелось бы продолжить эту тему – уж очень важна она, по-моему.
Валентин Распутин: Так и получается: о самых тяжелых временах самые добрые воспоминания. В военные и первые послевоенные годы голод свирепствовал и в деревне.
Отчего, казалось бы? Кругом тайга, там ягоды, грибы, орехи, дикий зверь, в Ангаре рыба, в стайке корова, в курятнике куры, свой огород. Но мужиков нет, старики и бабы в плотной, без выходных и проходных, колхозной работе, на корову когда удавалось накосить, а когда и не удавалось. И к весне поджимало так, что едва ноги таскали. Ели крапиву, лебеду, выковыривали остатки мерзлой картошки на колхозном поле.
Но деревня есть деревня. Ничего не таили друг от друга, да и невозможно было утаить. Если многодетная семья окончательно впадала в нищенство, делились последним.
Но в таких случаях и колхоз приходил на выручку. Так, миром, и спасались.
Все миром: и заготавливали дрова на зиму, и били новую русскую печь взамен прохудившейся, и поднимали завалившуюся избенку. Три обозначения было для такой сплоченности: мир, община и колхоз – и они друг с другом нисколько не спорили.
В 1948 году из своей Аталанки, где была четырехлетка, в пятый класс я поехал в райцентр, в Усть-Уду. И дважды за шесть лет учебы квартировал у своих одноклассников. Первая семья по тем временам могла считаться зажиточной, хозяин ее работал в комендатуре (в наших краях тогда было немало ссыльных литовцев), а вторая – едва сводила концы с концами. Но и там, и там мне не позволяли со своими скудными припасами питаться отдельно. За стол садились вместе. Что выставлялось – делилось поровну, и ни разу никто меня за кусок хлеба не укорил.
Разве такое забудешь?
И этот порядок взаимовыручки и общинности, гостеприимства и доверчивости поддерживался в деревне долго, вплоть до 80-х годов. Особенно в деревне со скромным достатком. Там же, где место колхозов заняли леспромхозы и пришла зажиточность, пришли со временем и скрытность, обособленность и, конечно, пьянство. Свою повесть «Пожар» я написал в 1985 году, уже и тогда картина была безрадостной.
Справедливость для нас превыше всего
– Получается, что бедность в каком-то смысле предпочтительнее богатства. И вы (так же, как Виктор Сергеевич Розов!) заговорили о преимуществе не богатства, а достатка: «Зачем человеку нужно богатство, если существует достаток? Зачем человеку лишнее?» Но, кроме богатства материального, есть еще и духовное богатство (или духовная бедность, нищета), о чем нынче совсем не говорится. Входит ли это, по-вашему, в понятие «качество жизни», которым сегодня вовсю бряцают? Иметь все (в материальном смысле), но жить бессовестно – это качественная жизнь?
Хочу обратить ваше внимание на расхожий оборот, который и у вас прозвучал: «Жить получше». Понятие «хорошо жить» у нас ныне действительно сводится лишь к «жирному куску». Кто его урвал, тот, дескать, и живет хорошо.
Но разве это так? Разве не точнее сказать наоборот, что человек плохо живет, если этот его кусок – ворованный, если у него отсутствует совесть, если он идет на все ради такой «хорошей жизни»? И не потому ли произошло у нас явное смещение понятий, что нравственный закон в нынешней нашей жизни фактически отменен?
– Это, знаете ли, как в сообщающихся сосудах: прибывает в одном – убывает в другом. Человек, прельстившийся материальными благами, как правило, теряет духовные. Всегда найдутся ему примеры для дальнейших соблазнов: у счастливчика машина последней марки, и даже не одна; у него не дом, а дворец; жена его шикует в таких нарядах, какие простым смертным и не снятся. И так далее. Вставший на этот путь, что называется, закладывает душу дьяволу: деньги его не могут быть честными, приемы жизни далеки от порядочности. И все, это уже не гражданин и не человек в ряду других, а небожитель. Россия перестает для него быть родиной и превращается в сверхприбыльную скважину, независимо от того, как, каким образом и какой хваткой достаются бешеные капиталы. Ни у одного из наших олигархов деньги не могут быть праведными, а этих олигархов за годы президентства Путина прибавилось многократно.
Почему мы говорим (говорим, конечно, для простых смертных) о преимуществе достатка? Потому что эта мера есть и материальная, и духовная. Человек, живущий в достатке, свободен. Он не ворует, как богатый, и ни перед кем не пресмыкается, как нищий. Совесть его спокойна. На заграницы он не молится и на Родину свою как на временное пристанище с презрением не смотрит. Дети с малолетства в домашних трудах и заботах и не вырастают ни белоручками, ни шалопаями.
Это, быть может, слишком благостная картина, потому что в больном обществе все болит – и где густо, и где пусто, и где в меру. Никуда не деться от чужебесия на TV, от школы, в которой скоро отучатся читать и писать на родном языке, от безобразных нравов. И все же семьи со средним достатком, по-моему, справляются со всем этим лучше. Если детям внушают не страсть к наживе, а честь и совесть. Внушают прежде всего примером собственной жизни.
Красиво жить не запретишь – это верно, но как раз в этом-то образе жизни и есть возможность сохранить красоту истинную.
– Недавно мне выпало счастье беседовать с человеком, которого вы знаете уже много лет и, насколько мне известно, очень уважаете. Это Илья Алексеевич Сумароков, генеральный директор сельскохозяйственного производственного кооператива «Усольский свинокомплекс» в родной вашей Иркутской области. Выдающийся он, конечно, хозяйственник (и, замечу, многолетний член бюро Иркутского обкома КПРФ). Но на меня огромное впечатление произвели не только экономические достижения хозяйства, которым руководит директор-коммунист. Может быть, еще больше восхитили отношения людей в этом коллективе.
Да и экономические успехи во многом объясняются человеческими отношениями, которые здесь утверждены. А главное в том, что сохранено в полном смысле слова коллективное хозяйство, что коллективная собственность не «схвачена» директором, как произошло почти повсеместно, а принадлежит всему коллективу.
Собственность, собственник… Эти слова звучат теперь зачастую зловеще. Из-за этого и раздоры, и взаимная ненависть, и кровь. У Сумарокова в кооперативе совсем иначе. Здесь принято общее решение: собственность хозяйства остается неделимой, то есть никто присвоить ее не может. И директор, как все другие, получает зарплату, которую назначает ему коллектив. Это ли не пример человеческой справедливости?