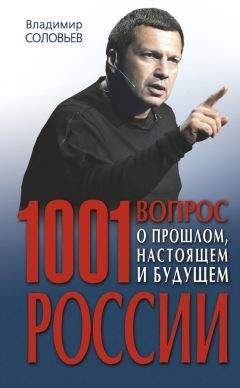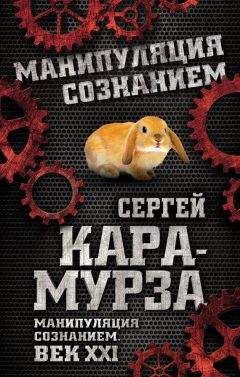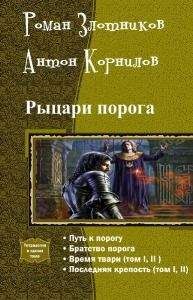Владимир Соловьев - Мы – русские! С нами Бог!
Возникает странное ощущение, что все вокруг какое-то дикое, природное. Какой-то неясный ужас появляется от осознания того, что в твоей жизни есть нечто большее, чем тупой прагматизм. Ведь как приятно с утра, проснувшись, отрезать толстый кусок колбасы, поджарить его и насладиться сытным завтраком, а в полуденный зной выпить в теньке кружечку пива, совершенно не думая о том, что тебе могут сказать: «Этого мало! Должно быть еще что-то. А где же душа?» И вот когда ты ешь колбасу, а тебе начинают говорить про душу, ты невольно начинаешь чувствовать себя неловко. Приходится скорее облизывать жирные пальцы – а других-то нет! И невольно говоришь сам себе: ой, да эти русские, они такие странные. Они, наверное, просто сумасшедшие.
Ну конечно, они сумасшедшие и странные. Они без всякого прагматизма бросаются в бой, и полтора миллиона человек гибнет, спасая союзников. Эта история времен Первой мировой войны плохо известна в России. Полтора миллиона человек просто погибло, чтобы не погибли союзники. Русские солдаты пожертвовали своими жизнями ради братушек-болгар – что впоследствии не помешало братушкам-болгарам продать нас по полной программе. Но мы шли – шли спасать Грецию, причем не единицы, а целые бригады отправлялись на Корфу, и наши моряки проявляли чудеса героизма, мужества и джентльменства, не только не обижая местных жителей, но и удерживая своих союзников от любой попытки расправы и даже по отношению к поверженным противникам проявляя гуманизм.
Что же это за народ такой? Конечно, любить его нельзя. Он страшен и дремуч. В этом и трагедия – мы непонятный народ. Народ, который сам себя пожирает и сам себя возрождает. Народ, в котором все перемалывается, но не в муку, а в удивительные ростки, и вырастают гигантские творения. Народ, которому и завидовать-то вроде не за что, потому что живем тяжело, а все же хочется быть причастным, потому что жизнь иная. В этом особенность и проклятие России – потому проклятие, что кому многое дается, с того много и спрашивают, и наказывают за любую ошибку. Но, конечно, по уровню дарования, по уровню бесшабашности, по уровню влюбленности в идеи равных нам мало. Что интересно: даже образцы государственности Россия сумела дать миру. И Иоанна Грозного, и Петра Великого знают везде. При том что с погодой, действительно, не всегда везет, да и с просторами тоже. Есть в метеорологии такое понятие – место, где формируется погода. Вот в этом и состоит особенность нашей страны. Россия – это территория, на которой формируется европейская погода. И если в России чихают, в Европе лихорадка начинается.
На протяжении всей книги я рассуждаю о том, что на русском народе лежит некая печать избранности. Так вот, суть этой избранности определяется ощущением справедливости – очень специфическим, очень странным, непереводимым ни на какой другой язык мира. В английском языке есть понятие fair, которое, наверное, ближе всего к понятию «справедливость», но все же не совсем точно ему соответствует. Ведь если вдуматься, почему-то только у нас в стране может быть честно, но несправедливо, по закону, но странно. А как я уже сказал, если существует несправедливость, русский человек спокойно жить не может. И здесь я абсолютно согласен с Владиславом Сурковым, который неоднократно повторял эту мысль: если что-то несправедливо, то мы этого не принимаем и принять не сможем. Я думаю, это очень верное высказывание.
Но что такое справедливость? Ведь понятие справедливости – это некая очень тонкая материя, которая зачастую не определенна. Это категория вселенской гармонии, гармонии окружающего мира и происходящего события. Справедливость имеет очень слабое отношение к законности, она не поддается жесткому описанию, но, тем не менее, она понятна каждому русскому человеку. И вот этот внутренний камертон справедливости в какой-то момент времени является определяющим, притом это камертон, который задает гуманистическая традиция русской литературы.
Это то, чего не объяснить иностранцу. Это то, что абсолютно не прагматично, то, что невозможно вычленить никаким разумным методом, и то, что не удастся заставить понять тонкого американского политолога или советолога. Он никогда не поймет, почему мы будем поддерживать мечущуюся республику Югославия, которая в итоге все равно нас предаст. Он не поймет, почему мы будем, несмотря на колоссальные международные потери, биться за какую-нибудь маленькую, далекую кавказскую республику, если нам это ничего, кроме головной боли, не принесет. И наши доводы – мол, «да нехорошо как-то, несправедливо», – они принять не могут.
Протестантский мир давно живет категориями разумности и если не прямой выгоды, то по крайней мере некоего рацио. Мы же предпочитаем жить по понятиям справедливости. Именно поэтому у нас гигантское будущее. Если угодно, мы народ, чем-то напоминающий тот самый вселенский бульон, из которого еще только должна выкристаллизоваться жизнь. Мы и пражизнь, и жизнь в одном лице. Мы постоянно одержимы мессианской идеей, что очень роднит нас с евреями времен Библии, Ветхого Завета, и воспринимаем себя как прямых проводников Божественного начала. Мы живем с ощущением, что вот сейчас нам будет открыта какая-то страшная тайна, и готовим себя к ней. И воспринимаем это не как индивидуальный подвиг, а как коллективный, забыв о выгоде и прагматизме и стремясь к достижению гармонии и высшей правды, что и составляет эту категорию справедливости.
Конечно, это необычно и нерационально. Это во многом мешает нашим отношениям с Западом. С другой стороны, Россию отношения с западным миром никогда особенно не волновали. Более того, любые попытки соответствовать западным стандартам и представлениям западного мира о России приводили к ослаблению позиций нашей страны. Нам гораздо важнее не подстраиваться под чьи-то представления о нас, а следовать своему внутреннему ощущению. Именно тогда и получаются великие прорывы Иоанна Грозного, Петра I и многих других. Любое копирование и западничанье обречено на провал. Первый этап реформ Петра был достаточно неудачным именно потому, что включал в себя элементы тупого копирования. А вот когда император начал тяжелым сапогом бить в морду европейскому соседу, жизнь сразу стала налаживаться.
Казалось бы, все приходящие на нашу землю европейцы, будь то наемники или захватчики, были представителями более высокого уровня культуры и несомненно должны были принести нечто, за что с радостью ухватились бы все другие, как это уже бывало в других странах – например, в Италии во времена завоеваний Наполеона. Однако в России этого никогда не происходило. Почему? Вот в этом и есть особенность национального характера. Уровень русской культуры, несмотря на всю внешнюю дремучесть мужика, оказывался слишком другим, словно с иной планеты. Он попадал в совершенно иную шкалу измерения, нежели то бытовое, мещанское счастье, которое несли с собой европейские завоеватели, считая, что каждый русский мечтает о маленьком домике, тихом палисаднике и фрау, которая целый день будет стряпать и стирать, а по воскресеньям бегать в кирху. Выяснялось, что русским этого не надо. Выяснялось, что в представлениях русских о счастье невозможно счастье мещанское, а возможно только цельное, свободное, не подчиняющееся структуре представлений о счастье носителей западной цивилизации.
Нас, конечно, ждет великое будущее, но только в том случае, если мы начнем осознавать ответственность, которая лежит на нашем народе, и перестанем пытаться притвориться маленькими европейцами. Каждый раз, когда мы пытаемся играть в среднего европейца, этот костюмчик оказывается нам тесен. Мы выглядим глупо, как бурый медведь, притворяющийся зайцем с барабаном. Мы не должны казаться маленькими бюргерами. В нас живет совсем другое начало, гораздо более мощное, гораздо более точное. И попытка сказать, что мы европейцы, будет неверной. Мы россияне, это гораздо более широкое понятие. Мы не случайно являемся наследниками великой гиперборейской земли, земли Гога и Магога. Назвать ее можно по-разному, но ясно, что эта земля долгие века была перекрестком. По этой земле ходили очень и очень разные племена. Пробегали хунну и Аттила, хазары устанавливали свои традиции, а Римская империя использовала нынешний Краснодарский край как место для ссылки неугодных и держала там три легиона для усмирения. И смешно сейчас считать, что мы на этой земле были всегда. Эта земля гораздо более древняя, чем мы. Земля, которую нам во многом еще только предстоит узнать и понять.
Наша трагедия в том, что на протяжении десятков и сотен лет нам предлагали неисторические концепции правды. Нас пытались политически убедить в том, что история России – иная, и мы слепо в это верили, не понимая, какое счастье – осознавать многотысячелетнюю историю и цивилизационные глубины, которые перед тобой открываются. Ведь почему-то именно наш народ остался на этой земле. Именно наш народ унаследовал великие традиции. В этом есть и избранность, и предначертание: на таком разломе может остаться только великий народ.