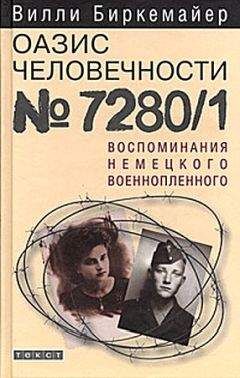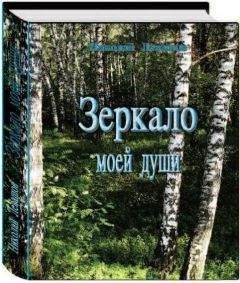Вилли Брандт - Воспоминания
Перед нашей встречей в апреле 1970 года Никсон пригласил меня на несколько дней отдохнуть в Кэмп-Дэвиде. Я прибыл туда из Эль-Пасо, где посетил подразделения бундесвера и где мне пришлось тяжело пережить убийство нашего посла графа Шпрети, похищенного в Гватемале. Итак, Генри (Киссинджер. — Прим. ред.) явился в летнюю резиденцию президента, не скрывая своего скептицизма. В последующие годы он неоднократно «поздравлял» меня с достижениями германской восточной политики — тем самым исправляя свою ошибку. За свое примирение с разделом мы получили всего-навсего улучшение политической атмосферы, сказал он как-то. Влиятельный помощник президента по вопросам безопасности, а позднее госсекретарь при Никсоне и Форде мыслил категориями «Европейского Концерна» и классической тайной дипломатии XIX века. В его глазах европейцы выглядели пешками в большой игре сверхдержав.
Существовали не только различные домыслы, но и серьезные размышления, согласился ли Вашингтон с нашей восточной политикой или, затаив злобу, только смирился с ней?
По большому счету разногласий быть не могло, так как Никсон по совету Киссинджера проводил начатую еще Кеннеди политику по отношению к Советскому Союзу под лозунгом «кооперация вместо конфронтации». Правительство США знало, что у нас и в мыслях не было уклоняться от сотрудничества с Западом, что, впрочем, и невозможно было сделать.
Не соответствует действительности версия, согласно которой мы всего лишь выполнили, «прочитали по буквам» только то, что нам посоветовали «заучить» США. Германская восточная политика имела собственные корни и собственное обоснование. Однако она — что касается меня и политики моего правительства — ни на секунду не исходила из иллюзорного представления о том, что мы якобы можем маршировать от одного «лагеря» к другому. В отношении доверительного сотрудничества и дружбы с Соединенными Штатами мне не в чем себя упрекнуть.
Когда я был бургомистром Берлина, США всегда оказывали мне поддержку и дружеский прием. Тут мне вспоминается «парад конфетти» в феврале 1959 года, в самый разгар ультиматума Хрущева. С президентами я был так же хорошо знаком, как и с целым рядом влиятельных сенаторов. С Джоном Кеннеди меня связывали особые отношения, но и встречи с Линдоном Джонсоном также носили доверительный характер. Лишь когда на американскую политику пала тень войны во Вьетнаме, Берлин стал соблюдать дистанцию.
Ричарда Никсона я знал с 1954 года, когда он был вице-президентом у Эйзенхауэра. Тогда и потом он подчеркивал, что мы с ним одногодки, и мы не испытывали по отношению друг к другу никакой робости. Правда, я никогда не мог забыть, что, когда «охота на ведьм» эпохи Маккарти, оказавшая также деморализующее влияние на Германию и Европу, уже закончилась, он продолжал усердствовать на этом поприще.
Во время нашей беседы 10 апреля 1970 года Ричард Никсон заявил без обиняков, что он доверяет нашей политике и знает, что мы не собираемся ставить на карту оправдавшую себя дружбу. Однако мы должны считаться с тем, что во Франции и в Англии, а кое-где и в США может возникнуть некоторая неуверенность. Если мы надумаем признать границу по Одеру и Нейсе (не было ли это призывом?), он отнесется к этому с полным пониманием, тем более что она стала фактом. Важно, что мы согласны поддерживать тесный контакт по всем вопросам, касающимся отношений между Востоком и Западом.
Когда в начале лета 1971 года я вновь побывал в Вашингтоне, то, к своему полному удовлетворению, констатировал, что сомнения по поводу германской восточной политики вроде тех, которые высказывались различными экспертами по Германии или людьми, таковыми себя считавшими, полностью рассеялись. Но и без того ни президент, ни госсекретарь Билл Роджерс, которого сменил Киссинджер, ни мои старые знакомые из комиссии по иностранным делам сената никогда не давали пищу для подобных сомнений.
Однако такие политики, как Клей, Макклой и Дин Ачесон, но особенно старый профсоюзный лидер Джордж Мини, не скрывали своей озабоченности и старались передать ее не только президенту. Ачесон, бывший госсекретарь при Трумэне, человек, пользовавшийся большим авторитетом, не стеснялся говорить о «сумасшедшей гонке в Москву».
От меня не ускользнуло, что в Пентагоне и в госдепартаменте, хотя его представители неоднократно заявляли о доверии к правительству Брандта, выдвигались существенные оговорки. Они подогревались лоббистами и боннской оппозицией, стремившейся к чему угодно, но только не к национальному консенсусу.
Райнер Барцель докладывал о своем посещении президента Никсона в сентябре 1970 года в Сан-Клементе: «Не чувствуется, чтобы Брандт пользовался поддержкой». А в январе 1972 года после беседы с Киссинджером он выразился еще более определенно: «Советский Союз намерен „финляндизировать“ Западную Европу, и начато это с Федеративной Республики». Модное словечко «финляндизация» не соответствовало реальности и являлось оскорбительным по отношению к храброму маленькому народу. На другой день он якобы получил поручение от Никсона: «Передайте, пожалуйста, привет господам Кизингеру и Шрёдеру. Мы не бросаем старых друзей».
Часто утверждалось, но никогда не подтверждалось, что Генри Киссинджер в мое отсутствие высказывался с другими нюансами. Людей, завидовавших его знаниям и умению, а еще больше необыкновенной карьере еврейского мальчика из немецкого города Фюрта, ставшего вторым человеком первой державы мира, хватало.
Я никогда не относился к некритическим почитателям Киссинджера. Он мне казался чересчур старомодным, слишком бросались в глаза его заимствования у Меттерниха и Бисмарка. По его мнению, я действовал слишком быстро и нетерпеливо, и здесь его можно было понять. Он все же опасался, что немцы могут оказаться в старом фарватере германского национализма. От Бисмарка до Рапалло? Подобные страхи испытывал не он один, но я считал и считаю их неосновательными. Однако главное состояло в том, что мы, на взгляд Киссинджера, были слишком самостоятельны. Он бы с удовольствием держал нас на более коротком поводке. Да и не только нас! Ибо Генри Киссинджер никак не мог привыкнуть к мысли, что европейцы действуют в унисон. Ему нравилось жонглировать Парижем, Лондоном, Бонном и на старый манер настраивать их друг против друга. И если приписываемые Киссинджеру слова о том, что ему милее четырнадцать карликов, чем один великан, кем-то придуманы, то это хорошо придумано.
Во всяком случае, он умудрился провозгласить 1973 год годом Европы, не посоветовавшись даже с европейскими правительствами. В мои представления о нем хорошо вписались и его выступления против европейско-арабского диалога. Киссинджер хотел, чтобы было четкое различие между ответственностью Европы за свой регион и ее участием в коллективной ответственности за состояние дел в мировой политике, без чего он не мог представить себе будущее. Впрочем, французов это бесило больше, чем нас, немцев. Мы были хладнокровнее и привыкли сносить обиды. На мое замечание, что американское присутствие в Европе дополнительно зафиксировано в хельсинкском Заключительном акте, он кисло заметил: «США не нуждаются в узаконивании их роли в Европе».
Когда стало ясно, что президент Никсон все более склоняется к поддержке нашей восточной политики, я почувствовал облегчение. Во время моего визита в начале лета 1971 года он особенно интересовался предстоящим заключением соглашения по Берлину. По случаю Дня 17 июня[7] я выступал в «Вальдорф-Астории» на заседании Американского совета по Германии. В нем участвовали старые защитники Германии Макклой и Клей. Казалось, что они уже избавились от своего скептицизма. Я без обиняков заговорил о наших намерениях и нашей ответственности и дал трезвый, отнюдь не смягченный анализ обстановки. Возможно, именно это помогло мне завоевать симпатии зала. Когда в конце того года я посетил Ричарда Никсона во Флориде, он подвел предварительный итог: «США не собираются указывать немцам, что им надо и что не надо делать, а предоставят им полную свободу действий».
То, что это могло быть не последним словом, заключалось в характере интересов мировой державы и лишь условно имело отношение к специфическим особенностям восточной политики. В начале марта 1973 года, когда на Белый дом уже легла тень Уотергейта, Никсон опять стал сдержаннее. Он заговорил о том, что может развиться эйфория разрядки, что будет способствовать проявлению изоляционистских тенденций в США или одностороннему разоружению. Советский Союз не хочет войны, но он все время будет пытаться изолировать Америку от Европы. Насколько далеко это беспокойство выходило за рамки основ восточной политики и сколь низкую степень недоверия оно вызывало ко мне и моему правительству, еще раз стало ясно из письма, датированного 8 мая 1974 года, в котором Ричард Никсон писал мне, что я могу рассчитывать на прочную личную дружбу с ним, что бы ни случилось в будущем.