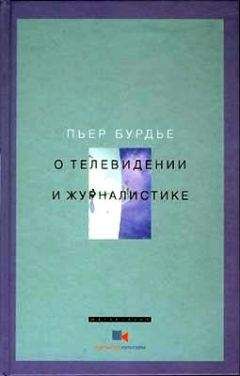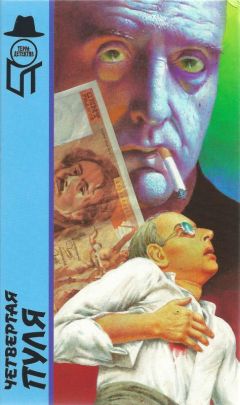Пьер Бурдье - Социология политики
История творится во всех этих ситуациях, когда отношение между агентами и их должностями основывается на некотором недоразумении: это те руководители самоуправляющихся фирм, министры, служащие, которые сразу же после освобождения Алжира вступали в должность, в обличье колониста, директора, комиссара полиции, позволив чужеземной истории собой завладеть через акт повторного овладения40; это те освобожденные работники ВКТ, которые, как показывает Пьер Гам, прекрасно «узнают самих себя» в силу их [классовых диспозиций в «Примирительном совете», одном из многочисленных институтов, созданных в XIX веке по инициативе «просвещенной» части господствующего класса в надежде «примирить» хозяев и рабочих; этот типично патерналистский вид правосудия, обеспечиваемый «семейным трибуналом», в явной форме уполномоченным для отправления «отеческой» власти и урегулирования спорных вопросов путем совета и примирения на манер семейных советов и путем «десоциализации» конфликтов, встречает со стороны рабочих ожидание ясного и быстрого судопроизводства, а со стороны их профсоюзных представителей — заботы о создании благопристойного образа рабочего класса41.
Таким образом овеществленная история играет на ложном соучастии, которое объединяет ее с инкорпорированной историей, чтобы завладеть самим носителем этой истории: то же происходит, когда руководители в Праге или в Софии воспроизводят мелкобуржуазный вариант буржуазной роскоши. В основе своей такие хитрости исторического разума42 основаны на эффекте fillodoxia, возникающей из случайного и неосознаваемого столкновения независимых исторических радов. Как видно, история также является наукой о бессознательном. Выводя на свет все, что скрывается как за доксой — непосредственным соучастием с собственно историей, так и за аллодоксией — ложным узнаванием, основанным на непознанном отношении между двумя историями, располагающим к тому, чтобы узнавать себя в другой истории — в истории другой нации или другого класса, — историческое исследование вооружает нас средствами истинного осознания или, более того, истинного самообладания.
Мы без конца попадаем в ловушку смысла, который формируется вне нас, без нас, в неконтролируемом соучастии, объединяющем нас, историческую вещь с историей-вещью. Объективируя все, что есть социально-немыслимого, то есть забытую историю, в самых обычных или самых ученых идеях — в омертвевших проблематиках, лозунгах, общих местах, — научная полемика, вооруженная всем тем, что произвела наука в постоянной борьбе с самой собой и с помощью чего она превосходит самое себя, предоставляет тому, кто ее ведет, и тому, кто ее на себе испытывает, возможность узнать, что он говорит и что делает, возможность действительно стать субъектом своих слов и действий и покончить с тем, что еще остается необходимого в социальных вещах и в идее о социальном.
Свобода заключается не в магическом отрицании этой необходимости, а в ее познании, что не обязывает и не предоставляет права ее признавать: научное познание необходимости заключает в себе возможность деятельности, направленной на ее нейтрализацию, а, следовательно, и возможную свободу. Тогда как непризнание необходимости предполагает самую абсолютную форму признания: пока закон игнорируется, результат свободы действия, этой соучастницы вероятного, проявляется как судьба; когда же он познан, этот результат проявляется как насилие.
Социология все еще полностью остается тем, что из нее часто делают, — наукой, стремящейся к развенчанию, по выражению Монтеня, «мыслей, родившихся на кухне», подозрительным и злым взглядом, лишающим мир его очарования и уничтожающим не только ложь, но и иллюзии, предвзятостью «редукции», облаченной в добродетель непреклонной мысли только в той мере, в которой она способна и себя самое подвергать такому же допросу, какому она подвергает любую практику. Можно постигнуть истины интереса, лишь согласившись на постановку вопроса об интересе для истины, и лишь проявив готовность рисковать наукой и ученой респектабельностью, превращая науку в орудие, служащее, чтобы ее самое подвергать сомнению. И все это — в надежде обрести свободу по отношению к той негативной и демистифицирующей свободе, какую дает наука.
Политический монополизм и символические революции
В конце одного своего доклада, с которым я выступил в 1983 г. перед Ассоциацией студентов-протестантов Парижа и где я анализировал логику политического делегирования и опасность монополизации, которую оно в себе таит, я сказал: «Еще предстоит совершить последнюю политическую революцию, революцию против политической клерикатуры и узурпации, которая в потенции заложена в делегировании.» Полагаю, что именно такая революция произошла в странах Восточной Европы в 1989 г., прежде всего в Польше с ее «Солидарностью», но также и с «Новым Форумом» в Германии и с «Хартией-77» в Чехословакии. Эти революции, часто возглавляемые писателями, артистами и учеными, конечной целью своей борьбы имели ту образцовую форму политического монополизма, которая была осуществлена ленинскими и сталинскими аппаратчиками, вооружившимися концептами, извлеченными из марксистской теории.
В отличие от того, что подразумевают обычно при противопоставлении «тоталитаризма» и «демократии», мне думается, что различие между советским режимом в том аспекте, который нас здесь интересует, и режимом партий, который превозносят под именем демократии, есть лишь различие в степени, и что в действительности советский режим представляет собой самую крайнюю ее степень. Советизм нашел в марксизме концептуальный инструментарий, необходимый для обеспечения легитимной монополии на манипулирование политическими речами и действиями (если позволить себе воспользоваться знаменитой формулой Вебеpa по поводу Церкви). Я имею в виду такие изобретения как «научный социализм», «демократический централизм», «диктатура пролетариата» или, last but not least[84], «органичный интеллектуал», — это высшее проявление лицемерия священнического звания. Все эти концепты и та программа действия, которую они определяют, направлены на обеспечение доверенному лицу, монополизирующему власть, двойную легитимность — научную и демократическую.
Популистский сциентизм, каким он себя представляет, обеспечивает Партии две конвергентных формы легитимности: марксистская доктрина как абсолютная наука о социальном мире дает тем, кто являются ее хранителями и официальными поручителями, возможность занять такую абсолютную точку зрения, которая является одновременно точкой зрения науки и точкой зрения пролетариата. Скорее следовало бы говорить об абсолютизме, чем о тоталитаризме — слово, которое ничего особенного не означает. Действительно, с помощью понятий, которые я перечислил, Партия наделяет себя абсолютной символической властью, эпистемократической и демократической одновременно: требование научности и требование репрезентативности усиливают друг друга с тем, чтобы заложить основания власти, осуществляемой над реальным народом от имени «метафизического пролетариата» (как говорит Колаковский). Благодаря установлению полной равноценности между представителем и предполагаемыми представляемыми (что с такой наивной решительностью подтвердил Робеспьер своим «Я — народ»), Партия-монополист может просто-напросто заменить народ, который говорит и действует через нее. Делегирование в пользу Партии является, как у Фомы Аквинского, отчуждением: народ отчуждает свою полномочную верховную власть в пользу всемогущей Партии (т. е. наделенной plena potentiaagendi et loquendi), которая лучше, чем сам народ, знает и делает то, что есть благо для народа. В результате советский режим путем социологической подделки смог «гражданское общество» поглотить Государством, доминируемых — доминирующими, осуществляя в форме реальной диктатуры, ряженой под диктатуру пролетариата, мечту буржуазии без пролетариата, которую Маркс приписывал буржуазии своего времени.
Специфика советского режима состоит в том, что ему удалось объединить два принципа легитимности, которые используются и демократическими режимами, но в раздельном виде — научность и демократическую репрезентативность, опираясь, в частности, на другое метафизическое изобретение, каким является идея пролетариата как универсального класса. Он довел до крайности монополизм политики, т. е. изъятие прав представляемых в пользу представителей, и дал свободно развиваться тенденциям, вписанным в сам факт делегирования и в логику функционирования даже самых «демократических» партий, или бюрократий, претендующих на научность.
Этот анализ подводит нас к тому, что составляет специфику недавних выступлений в Восточной Европе, обнаруживших близость не столько с Французской революцией, с которой их часто сравнивали по причине некоторого совпадения в датах, сколько с Реформацией и с лютеровской критикой сакраментальной роли духовенства и его стремлением низвести Церковь до простого congregatio delium[85]. В самом деле, эти нынешние революции руководствуются глубоким недоверием к таким организационным изобретениям, унаследованным от Французской революции и от социальной борьбы XIX века, какими являются партии и профсоюзы. В Восточной Европе, в силу исключительно долгого и болезненного опыта, перегибов в функционировании партий, «железного закона олигархий», как говорил Михельс, естественной склонности доверенных лиц выставлять интересы, связанные с собственным положением и его воспроизводством, впереди интересов их предполагаемых доверителей, практическое сопротивление безоговорочному делегированию, «fides implicita», которая составляет благополучие всех церковников и в особенности тех, кто претендует на выражение интересов наиболее обездоленных, стало социально возможным в результате всеобщего повышения образованности.