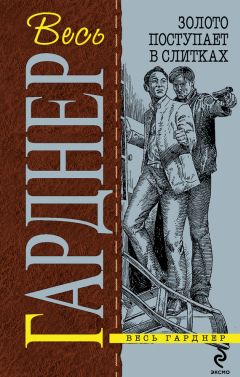Михаил Никонов-Смородин - Красная каторга: записки соловчанина
Возвратившись в крольчатник, я с особым усердием принимался за работу, желая потушить острую сердечную боль. Впрочем — в конце концов опять в глубине сердца рождалась надежда на будущее: авось, все это кончится более или менее благополучно.
Как-то вскоре в крольчатник зашел Михайловский. Посмотрев на мои кустарные сооружения для молодняка прямо на полу крольчатника, на животных в клетках, он выразил свое удивление:
— Вот сразу видно — по хозяйски все делается. И животные другими стали, ни одно к сетке не подходит.
— Вы им совершенно не давали воды, ограничиваясь только корнеплодами, оттого они у вас на сетку и лезли, — заметил я.
Вставал я в шесть утра, шел в крольчатник, доил трех коз «прикомандированных к крольчатнику», кормил и поил кроликов, а затем уже принимался сам за традиционное чаепитие. Все в крольчатнике было приспособлено для работы весьма плохо, и приходилось мне кустарничать.
Крольчатник быстро поправлялся. Молодые, до меня вымиравшие, кролики перестали падать, молодняк, мною захваченный и поправленный, стал совсем хорошим. Мрачный Туомайнен заходил иногда в крольчатник и с большим удовольствием смотрел на мою работу. Увидав первые полученные мною и выкормленные до двухмесячного возраста отличных кроликов, даже и Туомайнен не удержался от похвалы:
— Вот это я понимаю, это кролики.
Так шли дни здесь на этом участке жизни, отделенном от юдоли слез и отчаяния. Что оставалось нам в нашем положении? Конечно, только ждать, когда же петля вокруг нашей шеи будет затянута.
Молодой серб Божо, заведующий звериной кухней и продуктами продовольствия для животных, заходил иногда ко мне и мы проводили с полчаса-час в беседе с глазу на глаз. У него, стоящего близко к дому директора, можно было не только узнать о происходящем в ротах Кремля и острова, но и на правящих верхах. В то время правящая головка совсем не подходила на жуирующих чекистов: чекисты лицом к лицу столкнулись с опасностью быть сметенными с лица земли. Они то ведь знали свое окаянство, как знали о своей участи, если бы в руки восставших перешла власть на острове.
Божо рассказывает:
— Тревога в Кремле ужасная. Все чекисты и охрана на осадном положении: всегда одеты, всегда готовы выступить по тревоге… И, очевидно, есть от чего.
Еще-бы! Палачи привыкли иметь дело с бутафорскими делами, ими же самими сочиненными, привыкли иметь дело сь людьми морально убитыми подвально-концлагерной системой. Здесь же нашлись люди, сохранившие не только свое лицо, но и волю к борьбе.
Божо заметил мое состояние и, вероятно, почувствовал мою связь с заговорщиками. Он старался отвлечь мои мысли о соловецком несчастье, рассказывая о Югославии.
— Жаль вот обратный путь закрыт мне на родину. Согласен бы какое угодно наказание принять за свое дезертирство. Да, разве у нас такие законы? Здесь за пустяки смертная казнь. У нас за подобные преступления только тюрьма или наказание в порядке административном.
— Что же вас заставило бежать в Россию?
— Ведь я же представлял себе Россию совсем по-другому. Сколько труда было перебраться через границы. Здесь, после перехода границы я попал прямо в подвал. Первым делом мне предложили подать заявление о приеме в советское подданство. Конечно, я подал заявление и немедленно и без всяких формальностей таковое получил.
— Не завидую, — сказал я. — Однако, неужели у вас в Югославии нет настоящих сведений о Советском союзе, о коминтерне.
Подпольная агитация имеет у нас большой успех в распространении коммунистических идей. Нас просто коминтерн обманывал. Теперь вот на практике я испытал и вижу в деле коммунистические идеи. Так ведь меня на родину не пустят.
— А если попытаться нелегально пробраться?
Божо безнадежно машет рукой.
— И пытаться не буду. В лучшем случае опять в лагерь попадешь. Вот вам пример: заговорщики пытались — что из этого вышло? Ведь их ждет поголовный расстрел.
Божо взглянув на мое побледневшее лицо, спохватился, что-то пробормотав, пожал мне руку на прощанье и ушел в темноту ноябрьской ночи.
* * *
В кухню крольчатника вошел крепкий человек среднего роста, одетый в бушлат, стеганые арестантские штаны и «вольную» шапку. Я мельком на него взглянул и, продолжая работать, спросил, что собственно нужно пришедшему.
— Неужели не узнаете?
Я бросил работу и начал трясти в радостном приветствии руку пришедшего.
— Найденов, да как это вы сюда пробрались в такия захолустья?
Найденсв смеется.
— Я же вам говорил — записался плотником. Вот теперь строю здешний питомник. Я, собственно, н помещаюсь тут у вас над крольчатником. Сегодня только от письмоносца Пятых узнал о вашем здесь присутствии.
— Давно из Кремля?
— Всего несколько дней.
— Что там нового?
Найденов нахмурился и посмотрел на меня испытующим взором.
— Новости паршивые, — медленно начал он. — Аресты. Люди исчезают неизвестно куда. Хотя, кажется, теперь уже недели две как аресты прекратились. А у вас здесь арестов нет?
Я пожал плечами.
— Пока нет.
— Я думаю больше арестов не будет, — сказал Найденов.
— В чем же тут дело? — нерешительно спросил я. — Какие там слухи.
Найденов усмехнулся.
— Слухи, конечно, разные. Если их распускает ИСО, так они говорят о предстоящей общей расправе с заключенными вообще.
Помолчав, Найденов сказал:
— Мне Матушкин рекомендует вас как совершенно надежного человека, поэтому не будем играть в прятки. Как вы, конечно, знаете, провалился соловецкий заговор. Чем все это кончится — неизвестно. Однако, как оказалось — заговорщики народ стойкий и едва ли кого выдадут. Знают то ведь о загозоре всекаэровские Соловки.
Конечно, Найденов был прав. По угнетенному виду многих моих знакомых соловчан я угадывал об их причастности к заговору. И вот, несмотря на это, он все же остался для чекистов тайной до пустякового случая, провалившего заговорщиков.
Мы еще с полчаса разговаривали с Найденовым с глазу на глаз.
Прощаясь со мной, он говорил:
— Вот здесь благодатное местечко. И даже лодки есть. Дело не плохое для следования одиночным порядком без ведома начальства.
* * *
Двадцать второго ноября 1929 года уже под вечер я шел в Кремль в пятнадцатую роту с поручением. Голые скошенные поляны, унылый скрипучий лес навевал тоску и давил сердце. Я торопился выйти из лесу и попасть за светло в сельхоз к Матушкину.
Вот и сортоиспытательная. При виде домика, где жил Петрашко, я с тоской подумал о грозящей ему участи. Ведь если я жив и даже иду сейчас как некий свободный гражданин, без конвоя, то только по его благородству и мужеству.
На широкой долине от сортоиспытательной до Кремля гуляет ветер, гудит в телефонных проводах и гонит одиночные листья. Уже темнеет. В Кремле и во всех зданиях сельхоза горит электричество. Я иду в густеющей темноте как очарованный, не обращая внимания на пронизывающий холод, направляюсь к свету.
В общежитии сельхозских рабочих Матушкин отводит меня в сторону.
— Сегодня наши погибают, — шепчет он.
— Все? — едва мог выговорить я помертвевшими губами.
— Все.
Я не помню как выбрался на широкий сельхозский двор. Холодный ветер по-прежнему гудел в проводах, по-прежнему во мраке полярной ночи блистали освещенные окна. Я брел в Кремль как автомат…
На электростанции завыл сигнальный свисток. Мне нужно было пробираться обратно. Я вышел из пятнадцатой роты, направляясь к Северным воротам.
— Куда?! — окрик сзади.
Я оглянулся. Меня догонял чекистский патруль.
— Вернуться немедленно в роту! Пробую протестовать:
— Я из пушхоза. Мне нужно вернуться в пушхоз.
— Без разговоров! — кричит чекист.
Иду обратно в пятнадцатую. Только к полуночи удалось мне выбраться из Кремля и опять найти Матушкина. Взволнованный и нервный, правдист рассказывает:
— Чекисты заняли все входы и через Святые ворота вывели шестьдесят три заговорщика, приговоренных к смерти. Конечно, в этой группе были Петрашко, Чеховской, профессор Покровский, скауты и моряки.
— Недавно возвратилась подвода с Секирной горы, — продолжал Матушкин. — подводчика вызвала охрана. Повез он по Секирной дороге двух стрелков. Доезжают до раздорожья на Савватьево и вдруг лошадь как шарахнется. Стрелки вскочили и швырнули на воз три трупа, валявшихся на дороге. Убитые шли с большой партией еще нерасстрелянных заговорщиков на Секирную. Их, очевидно, убили пьяные чекисты.
Измученный переживаниями, пришел я на унылый, пустынный берег ближнего залива. В темноте у ног моих шумит прибой. Я пробую продвинуться к берегу и попадаю ногою на скользкий камень и, поскользнувшись, сажусь на влажную землю.