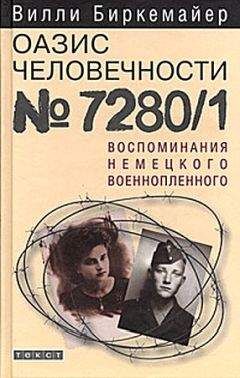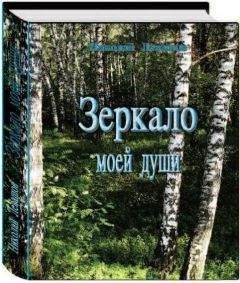Вилли Брандт - Воспоминания
Поздней осенью этого щедрого на события года Абрасимов пригласил меня в Москву. Я не стал отказываться. Несколько позднее советский посол в Бонне Смирнов за ужином у Бертольда Бейтца повторил приглашение и даже объяснил, где я буду жить в Москве. Но, так как я стал министром иностранных дел, визит в Москву не состоялся. Абрасимов не скрывал, что он очень недоволен созданием Большой коалиции. Однако он умел приходить к согласию.
О Смирнове я сохранил добрую память с тех пор, как он в 1960 году передал мне интересный меморандум, который одновременно был доведен до сведения федерального правительства. Однако там сочли, что он не заслуживает тщательного изучения. Предусматривалось установить более тесную связь Западного Берлина в качестве «вольного города» с территорией ФРГ и сделать его форумом для контактов между обеими частями Германии.
Тогда, летом 1960 года, Громыко попытался гнуть свою прежнюю линию. Находясь с визитом в Вене, он передал Бруно Крайскому документ, в котором мне настоятельно рекомендовалось вступить в переговоры с правительством СССР. Это было невозможно хотя бы по причине компетенции, а от Крайского, представлявшего себе дело таким образом, что я могу поехать в Москву вместе с Аденауэром, ускользнула разница между германскими и австрийскими реалиями. Возможно, в свое время действительно что-то было упущено, но, несмотря на это, обстановка впоследствии все же изменилась.
Это проявилось накануне летних каникул 1968 года, когда я посетил Абрасимова в его резиденции, что для федерального министра иностранных дел было довольно-таки необычно. Это был долгий, оживленный вечер, принесший определенные результаты. Когда мы сидели за ужином, послу позвонил Леонид Брежнев, который счел важным подчеркнуть, что его сторона желает не обострения, а спокойной обстановки в Берлине и вокруг него. Абрасимов отреагировал положительно на мое предложение о взимании общей суммы сборов за пользование автострадой. Когда я через некоторое время доложил об этом министрам иностранных дел трех держав, Дин Раск предсказал, что такое урегулирование разрядит обстановку. Я также убедил Абрасимова в необходимости ближе подойти к рассмотрению вопроса о договоре об отказе от применения силы. Между нами началась весьма конструктивная дискуссия. Мой вывод в бундестаге: «После беседы, которой придавалось очень большое значение, я не могу больше считать, что Советский Союз не осознал действительное значение наших предложений».
Дальнейший контакт с советской стороной, а именно с Андреем Громыко в Нью-Йорке, также завязался не совсем обычным путем. Я участвовал в первой конференции неядерных государств в Женеве, а оттуда направился в Нью-Йорк: в рамках Генеральной Ассамблеи ООН там состоялась встреча министров иностранных дел стран НАТО, и в этой же связи состоялась моя беседа с советским министром иностранных дел. Ее устроил мой знакомый, австрийский журналист Отто Лейхтер, представлявший в Нью-Йорке агентство ДПА. Она состоялась в представительстве СССР при ООН. С Громыко был старый эксперт по германским делам Семенов. Меня сопровождал Эгон Бар. Через некоторое время ему предстояло провести много дней в Москве, согласовывая с Громыко важнейшие составные части того договора, который я подписал в августе 1970 года.
Я нашел Громыко более приятным собеседником, чем представлял его себе по рассказам об этаком язвительном «мистере Нет». Он производил впечатление корректного и невозмутимого человека, сдержанного на приятный англосаксонский манер. Он умел в ненавязчивой форме дать понять, каким огромным опытом он обладает. Считалось, что у него феноменальная память. Это впечатление еще более усилилось, когда мы вновь встретились осенью 1969 года. Я прилетел в Нью-Йорк исключительно ради этой встречи, хотя (а может быть, потому что?) вскоре предстояли выборы в бундестаг. На этот раз Громыко появился в сопровождении Валентина Фалина, который в министерстве иностранных дел занимался вопросами, связанными с нашим будущим договором. Позже он стал послом в Бонне, к которому относились с большим уважением, а для некоторых из нас он стал даже другом. Горбачев включил его в узкий круг своих ближайших советников.
Содержание обеих бесед в значительной мере предвосхищало то, чем нам предстояло заниматься в связи с Московским договором. Громыко весьма резко заявил, что вопрос сложившихся после второй мировой войны границ — «это вопрос войны и мира». С другой стороны, по его словам, в немецком народе никто не видит «вечного врага». Немцы напрасно волновались, опасаясь, что в связи с Договором о нераспространении Советский Союз хочет сохранить возможность воспользоваться оговоркой о вражеских государствах в Уставе ООН, чтобы обосновать свое право на вмешательство. Улучшение атмосферы германо-советских отношений в 1969 году, вероятно, было связано с трудностями Москвы на Дальнем Востоке. Посол Царапкин побывал у меня еще весной, чтобы по поручению своего правительства (и в довольно взволнованном тоне) проинформировать меня о напряженности в отношениях с Китаем; в начале марта на Уссури имели место бои между пограничными частями.
В первой половине 1969 года я провел с полдюжины длительных бесед с советским послом. Он посетил меня также в Бюлерхеэ, где я лечился от плеврита. После летнего перерыва мы продолжили обмен мнениями. В сентябре Москва дала официальный ответ на нашу инициативу по вопросам отказа от применения силы и предложила начать переговоры. Решающим я теперь считал советскую заинтересованность в экономическом сотрудничестве, а русско-китайские осложнения играли, как я думал, второстепенную роль.
А может быть, советское руководство прежде всего рассчитывало, что ему придется иметь дело с будущим федеральным канцлером Брандтом? Сразу после выборов 28 октября у меня появился Царапкин и передал пожелание Кремля, чтобы новое федеральное правительство нормализовало отношения с восточноевропейскими государствами и расчистило путь к разрядке в Европе.
Отношениям с Советским Союзом придавалось, что было ясно почти всем, особое значение. Попытки урегулировать отношения с государствами, расположенными между Германией и Россией, раздельно, как это пытались сделать до моего прихода в МИД, не могли увенчаться успехом. В 1963–1964 годах по согласованию с социал-демократами были открыты торговые представительства в Варшаве, Бухаресте, Будапеште и Софии. В Праге, которая долгое время противилась включению Западного Берлина в переговоры как равноправного партнера, мы открыли такое представительство летом 1967 года. Весной 1966 года министр иностранных дел Шрёдер — опять же по договоренности с социал-демократами — направил всем, в том числе и восточноевропейским государствам, «мирную ноту» с предложением обменяться заявлениями об отказе от применения силы. Правительство Кизингера истолковало это предложение таким образом, что к нему могла также подключиться и ГДР.
Исключение составляли дипломатические отношения с Румынией, об установлении которых мы еще в начале 1967 года договорились в Бонне с моим коллегой Корнелиу Манеску. Летом того же года я сам поехал в Бухарест. В то время с Николае Чаушеску еще можно было разумно разговаривать.
Во время моего пребывания в Бухаресте разразилась одна из нередких в Бонне «бурь в стакане воды». Причиной ее послужило крохотное добавление к моей заранее написанной застольной речи. В рукописи стояло, что мы согласны с тем, что в вопросах европейской безопасности следует исходить из существующих реальностей. К этому я добавил: «Это относится также к обеим существующим в настоящее время на немецкой земле политическим системам. Необходимо избавить людей от чувства неуверенности и страха перед войной». Добавление возникло на основе вопросов, которые мне задавали за столом. Трудно было понять граничащую с истерией реакцию официального Бонна, но она показала, что вопрос о включении другого немецкого государства в переговоры продолжает наталкиваться на большое сопротивление.
Другие страны также дали понять, что они заинтересованы в нормализации отношений, попросили на это разрешения, но не получили его. Варшавский пакт — прежде всего по настоянию Восточного Берлина — вновь, но теперь уж ненадолго, отмежевался от нас. Ульбрихт еще раз склонил Варшаву и Прагу к вступлению в «Железный треугольник», осуществляя свою контрдоктрину: полноценные отношения с нами, только при условии нашего признания согласно нормам международного права ГДР и границы по Одеру и Нейсе, согласия на то, что Западный Берлин является «самостоятельной политической единицей», объявления Мюнхенского соглашения «с самого начала недействительным», решительного отказа от обладания атомным оружием. С нашими усилиями по нормализации отношений с Советским Союзом и его союзниками было связано восстановление полных дипломатических отношений с Югославией, что также имело большое значение для европейской политики. Весной 1968 года я поехал в Белград, а оттуда на остров Бриони к Тито. Мне снова помог журналист. На этот раз связь была установлена через югославского корреспондента, с которым я был дружен, когда работал в Берлине.