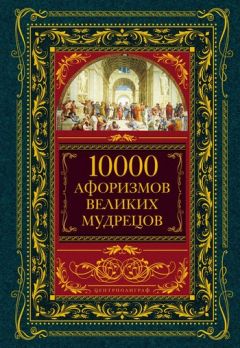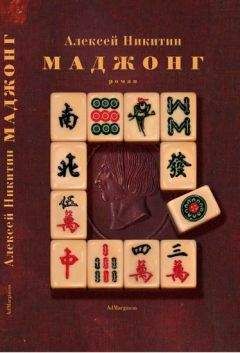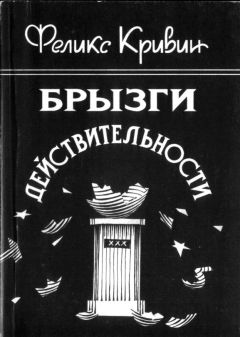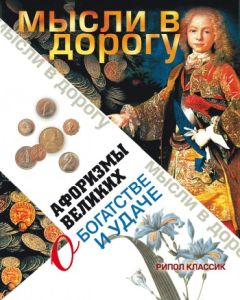Юрий Домбровский - Моя нестерпимая быль
Убит при попытке к бегству
Мой дорогой, с чего ты так сияешь?
Путь ложных солнц — совсем не легкий путь!
А мне уже неделю не заснуть:
Заснешь — и вновь по снегу зашагаешь,
Опять услышишь ветра сиплый вой,
Скрип сапогов по снегу, рев конвоя:
«Ложись!» — и над соседней головой
Взметнется вдруг легчайшее, сквозное,
Мгновенное сиянье снеговое
Неуловимо тонкий острый свет:
Шел человек — и человека нет!
Убийце дарят белые часы
И отпуск в две недели. Две недели
Он человек! О нем забудут псы,
Таежный сумрак, хриплые метели.
Лети к своей невесте, кавалер!
Дави фасон, показывай породу!
Ты жил в тайге, ты спирт глушил без мер,
Служил Вождю и бил врагов народа.
Тебя целуют девки горячо,
Ты первый парень — что ж тебе еще?
Так две недели протекли — и вот
Он шумно возвращается обратно.
Стреляет белок, служит, водку пьет!
Ни с чем не спорит — все ему понятно.
Но как-то утром, сонно, не спеша,
Не омрачась, не запирая двери
Берет он браунинг.
Милая душа,
Как ты сильна под рыжей шкурой зверя!
В ночной тайге кайлим мы мерзлоту,
И часовой растерянно и прямо
Глядит на неживую простоту,
На пустоту и холод этой ямы.
Ему умом еще не все обнять,
Но смерть над ним крыло уже простерла.
«Стреляй! Стреляй!» В кого ж теперь стрелять?
«Из горла кровь!» Да чье же это горло?
А что, когда положат на весы
Всех тех, кто не дожили, не допели,
В тайге ходили, черный камень ели
И с храпом задыхались, как часы?
А что, когда положат на весы
Орлиный взор, геройские усы
И звезды на фельдмаршальской шинели?
Усы, усы, вы что-то проглядели,
Вы что-то недопоняли, усы!
И молча на меня глядит солдат,
Своей солдатской участи не рад.
И в яму он внимательно глядит,
Но яма ничего не говорит.
Она лишь усмехается и ждет
Того, кто обязательно придет.
1949 г.
«Меня убить хотели эти суки…»
Меня убить хотели эти суки,
Но я принес с рабочего двора
Два новых навостренных топора.
По всем законам лагерной науки
Пришел, врубил и сел на дровосек;
Сижу, гляжу на них веселым волком:
«Ну что, прошу! Хоть прямо, хоть проселком…»
— Домбровский, — говорят, — ты ж умный человек,
Ты здесь один, а нас тут… Посмотри же!
— Не слышу, — говорю, — пожалуйста, поближе!
Не принимают, сволочи, игры.
Стоят поодаль, финками сверкая,
И знают: это смерть сидит в дверях сарая:
Высокая, безмолвная, худая,
Сидит и молча держит топоры!
Как вдруг отходит от толпы Чеграш,
Идет и колыхается от злобы.
— «Так не отдашь топор мне?» — «Не отдашь?!» —
«Ну сам возьму!» — «Возьми!» — «Возьму!..» —
«Попробуй!»
Он в ноги мне кидается, и тут
Мгновенно перескакивая через,
Я топором валю скуластый череп
И — поминайте как его зовут!
Его столкнул, на дровосек сел снова:
«Один дошел, теперь прошу второго!»
И вот таким я возвратился в мир,
Который так причудливо раскрашен.
Гляжу на вас, на тонких женщин ваших,
На гениев в трактире, на трактир,
На молчаливое седое зло,
На мелкое добро грошовой сути,
На то, как пьют, как заседают, крутят,
И думаю: как мне не повезло!
Утильсырье
Он ходит, черный, юркий муравей,
Заморыш с острыми мышиными глазами;
Пойдет на рынок, станет над возами,
Посмотрит на возы, на лошадей,
Поговорит о чем-нибудь с старухой,
Возьмет арбуз и хрустнет возле уха.
В нем деловой непримиримый стиль,
Не терпящий отсрочки и увертки,
И вот летят бутылки и обертки,
И тряпки, превращенные в утиль,
Вновь обретая прежнее названье,
Но он велик, он горд своим призваньем:
Выслеживать, ловить их и опять
Вещами и мечтами возвращать!
А было время: в белый кабинет,
Где мой палач синел в истошном крике,
Он вдруг вошел, ничтожный и великий,
И мой палач ему прокаркал: «Нет!»
И он вразвалку подошел ко мне,
И поглядел мышиными глазами
В мои глаза, — а я был словно камень,
Но камень, накаленный на огне.
Я десять суток не смыкал глаза,
Я восемь суток проторчал на стуле,
Я мертвым был, я плавал в мутном гуле,
Не понимая больше ни аза.
Я уж не знал, где день, где ночь, где свет,
Что зло, а что добро, но помнил твердо:
«Нет, нет и нет!» Сто тысяч разных «нет»
В одну и ту же заспанную морду!
В одни и те же белые зенки
Тупого оловянного накала,
В покатый лоб, в слюнявый рот шакала,
В лиловые тугие кулаки!
И он сказал презрительно-любезно:
— Домбровский, вам приходится писать…
Пожал плечами: «Это бесполезно»!
Осклабился: «Писатель, вашу мать!..»
О, вы меня, конечно, не забыли,
Разбойники нагана и пера,
Лакеи и ночные шофера,
Бухгалтера и короли утиля!
Линялые гадюки в нежной коже,
Убийцы женщин, стариков, детей!
Но почему ж убийцы так похожи,
Так мало отличимы от людей?
Ведь вот идет, и не бегут за ним
По улице собаки и ребята,
И здравствует он, цел и невредим,
Сто раз прожженный, тысячу — проклятый.
И снова дома ждет его жена
Красавица с высокими бровями.
И вновь ее подушки душат снами,
И ни покрышки нету ей, ни дна!
А мертвые спокойно, тихо спят,
Как «Десять лет без права переписки»…
И гадину свою сжимает гад,
Равно всем омерзительный и близкий.
А мне ни мертвых не вернуть назад
И ни живого вычеркнуть из списков!
Алма-Ата. (Рынок.) 1959 г.
Известному поэту
Нас даже дети не жалели,
Нас даже жены не хотели,
Лишь часовой нас бил умело,
Взяв номер точкою прицела.
Ты в этой крови не замешан,
Ни в чем проклятом ты не грешен,
Ты был настолько независим,
Что не писал «открытых писем».
И взвесив все в раздумьи долгом,
Не счел донос гражданским долгом.
Ты просто плыл по ресторанам
Да хохмы сыпал над стаканом
И понял все и всех приветил
Лишь смерти нашей не заметил.
Так отчего, скажи на милость,
Когда, пройдя проверку боем,
Я встал из северной могилы
Ты подошел ко мне героем?
И женщины лизали руки
Тебе — за мужество и муки?!
Амнистия
Даже в пекле надежда заводится,
Если в адские вхожа края.
Матерь Божия, Богородица,
Непорочная дева моя!
Она ходит по кругу проклятому,
Вся надламываясь от тягот,
И без выборов каждому пятому
Ручку маленькую подает.
А под сводами черными, низкими,
Где земная кончается тварь,
Потрясает пудовыми списками
Ошарашенный секретарь.
И кричит он, трясясь от бессилия,
Поднимая ладони свои:
— Прочитайте вы, Дева, фамилии,
Посмотрите хотя бы статьи!
Вы увидите, сколько уводится
Неугодного Небу зверья
Вы не правы, моя Богородица,
Непорочная Дева моя!
Но идут, но идут сутки целые
В распахнувшиеся ворота
Закопченные, обгорелые,
Не прощающие ни черта!
Через небо глухое и старое,
Через пальмовые сады
Пробегают, как волки поджарые,
Их расстроенные ряды.
И глядят серафимы печальные,
Золотые прищурив глаза,
Как открыты им двери хрустальные
В трансцендентные небеса;
Как крича, напирая и гикая,
До волос в планетарной пыли
Исчезает в них скорбью великою
Умудренная сволочь земли.
И глядя, как кричит, как колотится
Оголтевшее это зверье,
Я кричу:
— Ты права, Богородица!
Да прославится имя твое!
Колыма. Зима 1940 г.
Мария Рильке
Выхожу один я из барака,
Светит месяц, желтый, как собака,
И стоит меж фонарей и звезд
Башня белая — дежурный пост.
В небе — адмиральская минута,
И ко мне из тверди огневой
Выплывает, улыбаясь смутно,
Мой товарищ, давний спутник мой!
Он — профессор города Берлина,
Водовоз, базарный дровосек,
Странноватый, слеповатый, длинный,
Очень мне понятный человек.
В нем таится, будто бы в копилке,
Все, что мир увидел на веку.
И читает он Марии Рильке
Инеем поросшую строку.
Поднимая палец свой зеленый,
Заскорузлый, в горе и нужде,
«Und Eone redet mit Eone»
Говорит Полярной он звезде.
Что могу товарищу ответить?
Я, делящий с ним огонь и тьму?
Мне ведь тоже светят звезды эти
Из стихов, неведомых ему.
Там, где нет ни время, ни предела,
Ни существований, ни смертей,
Мертвых звезд рассеянное тело
Вот итог судьбы твоей, моей:
Светлая, широкая дорога
Путь, который каждому открыт.
Что ж мы ждем? Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит…
Песня, которую мы пели в лагере, спалив Б(арак) У(силенного) Р(ежима) в 1952 году