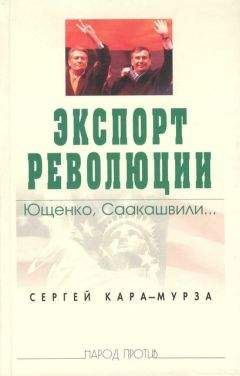С.Г. Кара-Мурза - Порочные круги постсоветской России т.1
Дореволюционная Государственная Дума изначально рассматривалась в качестве исключительно совещательного учреждения, встроенного в административную вертикаль власти. Вышеуказанное воззрение на роль парламента сохранялось в своей сути в каждом случае подготовки законодательных документов, определявших правовой статус представительного органа в России, хотя некоторые из разработчиков считали его законосовещательный характер временным (переходным). Речь об ответственности министров перед парламентом даже не велась, хотя в своем ответном адресе на тронную речь государя императора (по образу и подобию западных парламентов) первая Государственная Дума выставила одним из первых условий «умиротворения страны» ответственность министров [29, с. 2; 33, с. 654].
Отметим, что соответствующие предложения (правда, в весьма ограниченном масштабе) содержались, к примеру, в проекте Конституции, подготовленном Государственной канцелярией, но в ходе последующей конституционной работы их исключили. Николай II рассматривал министров как своих доверенных лиц, управлявших под его общим руководством центральными ведомствами. Они непосредственно ему подчинялись и входили к монарху со всеподданнейшими докладами [42, с. 39, 108].
Следует сказать лишь в общих словах об основаниях вышеуказанного конфликта. Так, развитие российского конституционализма имело совершенно другие социальные основания в сравнении с его европейскими аналогами [29, с. 124]. В отличие от истории становления института парламентаризма в Европе, в огромной крестьянской стране с многовековыми патримониальными традициями импульс народного представительства рос не столько как органичный обществу императив, вызревавший в его толще, сколько как результат реакции интеллектуальной и политической элиты на внешние вызовы (прежде всего — либеральной). По мере углубления всех кризисных ситуаций другая — причем большая — часть населения уповала, как правило, на правление твердой руки [32, с. 117]. С другой стороны, император Николай II искренне полагал «вредным для вверенного [ему] Богом народа» представительный образ правления, а под общественным мнением, полагавшим необходимым проведение преобразовательных политических действий, считал мнение горстки «интеллигентов», предлагая «вычеркнуть это иноземное слово из словаря русской речи». Опыт развития европейских представительных учреждений игнорировался оппозиционными кругами русского общества, считавшими воплощением своих политических идеалов парламентарный строй современных им Англии и Франции; демонстрируя стремление к немедленному разрыву с вековым прошлым России, они требовали безотлагательного введения парламентской ответственности министров и выборов на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. По замечанию А.Ф. Смирнова, оппозиции XX в. недоставало понимания того, что политическое устройство Англии и Франции начала XX в. явилось результатом длительного и сложного процесса развития. Да и развитие в этих двух странах шло своими, далеко не тождественными путями и отнюдь не в порядке преобразования их государственного строя [42, с. 30, 33, 159].
В результате, отношения в треугольнике «парламент — правительство — монарх» складывались так, что ослабления власти главы государства (как в Англии) вследствие борьбы с парламентом не произошло; объединение с правительством, ответственным лишь перед монархом, вело к последовательному усилению положения последнего, а существование парламента воспринималось исключительно в качестве некоторой уступки со стороны административной власти.
Однако за происходившими трансформациями и внешними объяснениями скрывалась ключевая причина отсутствия западных аналогов отношений ответственности в рамках складывавшейся политической системы. Дело в том, что власть в России исконно понималась как самодостаточная ценность (по выражению С.Н. Сыромятникова, «Власть есть самое драгоценное, что вырабатывает государство»). Если в европейских государствах эволюция приводила к понятию «народного суверенитета», формуле «власть от народа (общества)», в России власть брала свое начало от Власти (выражение Ю.С. Пивоварова). Именно верховная Власть рассматривалась в качестве защитника выраженной народной воли (В.С. Ключевский), опирающаяся на административный аппарат, в рамках которого разделение властей имело исключительно функциональное значение («посредствующие власти» — по выражению дореволюционного правоведа А.Д. Градовского). «Народное представительство возникло у нас не для ограничения власти, а чтобы найти и укрепить власть — в этом его отличие от западноевропейского представительства» (В.С. Ключевский) [49, с. 13-15, 18-21, 84]. В результате, в России произошел переход к специфической четырехзвенной модели разделения властей, когда наряду с тремя традиционными ветвями власти (и над ними) предполагается четвертая — верховная власть, персонифицированная в фигуре главы государства [31, с. 67]. Подобная конструкция разделения властей послужила основой для последующей «авторитаризации» власти в руках правителя и создала условия для перехода к диктатуре вождистского типа [29, с. 45], сохранив свои черты и в российское время. При такой конструкции «сувереном» выступает (в отличие от западноевропейских обществ) глава государства (император, президент, генеральный секретарь и др.), определяющий «должное» и возлагающий ответственность в случае нарушения соответствующего порядка.67 Власть носит ярко выраженный персонифицированный характер, обязательно предполагая определенного ее носителя [49, с. 17]. Поэтому в вопросах назначения своих советников глава государства в России пользуется исключительно своими личными пристрастиями и вправе не считаться с мнением представительного органа и общественного мнения («власть от Власти»). Аналогичным образом и ответственность советников базируется на нормах, обусловленных личностью правителя. Если в западноевропейских странах именно общество формулирует «норму поведения», политический ориентир для политика, в России их источником являются воля суверена в лице главы государства и именно его представления о «народном благе». Соответственно, и народ рассматривает это право суверена как имманентно присущее ему.
Изменить существующее положение вещей стремились приверженцы возникших радикальных политических течений. В отличие от европейских стран, в которых импульс политической ответственности реализовывался в основном через механизм народного представительства, а общественное мнение служило дополнительным каналом взаимодействия общества и власти, в России он канализировался в деструктивных формах — прежде всего в форме политического (революционного) терроризма (или террора). Во-первых, из-за отсутствия до XIX в. прослойки в виде интеллигенции; во-вторых, ввиду ее антагонизма по отношению к власти. Разумеется, политический террор имел место и в европейской истории, однако именно в России он превратился в единственно возможное средство влияния на правительственную власть со стороны появившихся политических партий. Во втором, дополнительном, томе словаря Брокгауза и Ефрона (1907 г.) в статье «Террор в России» под последним как раз понималась «система борьбы против правительства, состоявшая в организации убийства отдельных высокопоставленных лиц…». Как отмечает О.В. Будницкий, «терроризм должен был способствовать дезорганизации правительства; в то же время он являлся своеобразной формой “диалога” с ним — угрозы новых покушений должны были заставить власть изменить политику». Хотя идеологическое обоснование индивидуального террора в дореволюционной России было различным, условия, приводившие к возрождению террористических идей и к возобновлению террористической борьбы, оставались в России неизменными на протяжении четырех десятилетий после начала реформ 1860-х гг.: разрыв между властью и обществом, незавершенность реформ, невозможность для образованных слоев реализовать свои политические притязания, жесткая репрессивная политика властей по отношению к радикалам при полном равнодушии и пассивности народа толкали последних на путь терроризма [47, с. 11, 45, 339]. Представители радикальных политических течений рассматривали себя в качестве представителей народа и выразителей его воли, однако, как хорошо известно, находились «в плену» многочисленных иллюзий в отношении народа.
Вновь возвращаясь к широкому пониманию политической ответственности, о котором шла речь в самом начале раздела, отметим, что индивидуальный террор в отношении представителей правительства (наряду с революционными событиями) можно рассматривать как крайнюю форму политической ответственности, претендовавшую на замещение традиционной конструкции политической ответственности, «замыкавшейся» на фигуре главы государства.