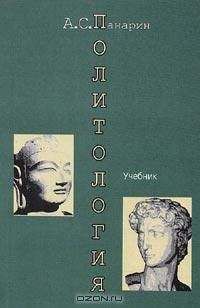Александр Панарин - Глобальное политическое прогнозирование
Чтобы впредь не попадать в самоубийственную ловушку ложной лево-правой дилеммы, России предстоит осмыслить крах модерна совсем в других терминах, ничего общего не имеющих с политическими качелями модерна. Пора понять, что выход не в том, чтобы в ответ на разрушительные крайности оголтелых правых вновь пуститься влево и, таким образом, обречь страну на бег по дурному кругу. Необходимо качественное преобразование перспективы, смена координат. Эта смена возможна только путем обращения к восточной традиции, в которой заложена возможность ответа и на эту проблему.
3) О потенциале "срединного пути"
Я имею в виду концепцию "срединного пути" — "чжун юн". Характерно, что идея срединного пути отражает консенсус между тремя основными разновидностями великой китайской традиции — конфуцианством, даосизмом и буддизмом. "Срединный путь" ничего общего не имеет ни с эклектической всеядностью, ни с лишенной политического и морального мужества уклончивостью. Последние качества отражают то поражение нашего духа, которое следует за расколом изначальной безыскусной целостности, и представляют собой выражение последующих фаз распада.
Искать правоту между расколотыми полюсами мира — значит попасть в плен ложных дилемм и замкнуть себя в инфернальный круг лево-правого цикла. Следует не выбирать между полюсами ложной дилеммы, а, вынеся их за скобки, идти вглубь, к первичной реальности или первичной интенции. В чем-то это напоминает эйдетическую редукцию Э. Гуссерля, также полагавшего, что кризис модерна связан с утратой первооснов, пробиться к которым помогает процедура вынесения за скобки всего наносного, искусственного, вторичного.
Китайская традиция и здесь поражает своим предвосхищением коллизий эпохи модерна. Она настаивает на том, что срединный или центральный путь — это тот путь, в котором обретается периодически теряемая связь человека с Небом, с Космосом. Если модерн черпает свое вдохновение в разрыве прометеева человека с миром, в противостоянии ему, и партии модерна соревнуются в том, чье противостояние "правильнее" и "эффективнее", то китайская мудрость учит возвращению к единству человека с миром. Это единство может быть легитимировано в глазах просвещенного человека только в том случае, если оно не унижает его духовности, как это делает языческий пантеизм, и не требует от него отказа от самосознания как высшего интеллектуального и морального завоевания.
В китайской традиции понятие природного Космоса не несет теллургической нагрузки, не обозначает темного, хотя и теплого лона Земли. Китайский Космос — это больше Небо, чем Земля; он изначально возвышен и воплощает (в особенности в конфуцианстве) всепроникающий высший Закон, а не буйство природных стихий. Если русская любовь к природе есть проявление любви к воле, как метко сказал Б. П. Вышеславцев, то китайское тяготение к Космосу есть движение навстречу закону, а не уход от него. Но это движение лишено того насилия над собственной природой, которая предусматривается аскезой протестантизма или рационалистической аскезой просвещенческого "перевоспитания". Если дао — не только вовне, но и внутри нас, в качестве лучшей части нашего "я", то возврат на путь дао есть возврат к самому себе. Высший уровень Космоса и высший уровень человеческого сознания. Небо и внутренний закон совпадают. "Тот, кто до конца раскроет свое сердце, до конца поймет собственную природу. Тот, кто до конца поймет собственную природу, познает (дао) Небо. Служить Небу означает сохранить изначальную природу сердца и вскармливать свою природу" { Великие мыслители Востока. С. 22. } .
Таким образом, восточная антропология лишена того изначального подозрения о природе человека, которое содержится в западной традиции. Здесь нет никаких намеков на противоборство сознания и подсознания, инстинкта и разума, стихии и Логоса. "Сердце" в китайской антропологии не означает той сентиментальной порывистости, которая, как у Канта, находится на подозрении у настоящего морального сознания, обязывающего быть справедливым к ближним вопреки личным склонностям. "Сердце" в китайской антропологии разумно как раз в моральном смысле: его выбор более безошибочен, чем изыски какой бы то ни было теории. Это сердце в равной мере влечет нас и к Небу, и к ближнему, ибо лучшее в Космосе и лучшее в нашей душе полностью совпадают.
В какой-то мере эта мировоззренческая установка близка нашему православию. Как пишет архимандрит И. Мейендорф, православный "сакраментальный реализм", в отличие от протестантского номинализма, провозглашает не "одиночество совести", а христоцентричную общинность, отражающую и единство христианин с миром и их единство между собой. "Бог хочет, чтобы мы, родившись от Него благодатью, не разлучались с Ним и друг с другом" { Арх. Иоанн Мейендорф. Сочинения. М.: 1998. С. 246. } .
В этом смысле "срединный путь" есть центральный путь: он указывает на возможность возврата от грехопадения разделенности на всевозможные политические, культурные, этнические полюсы к первоединству. Срединный путь китайской духовности весьма близок "философии единства", вынашиваемой в русской традиции. Этот путь требует разрыва с философией модерна, полагающейся на прогресс. Прогресс есть движение в сторону прогрессирующей дифференциации, заканчивающийся, как показывает опыт, непримиримыми противостояниями и поляризацией. Путь ко всеединству есть путь возвращения. Его не следует понимать в буквальном историческом и эмпирической смысле — как возвращение к какому-то конкретному периоду, воплощающему золотой век. Возвращение следует понимать, скорее, в нормативном смысле — как постижение законов космической гармонии, обязывающей человека преодолеть экологический и социальный (нравственный) нигилизм, грозящий последней катастрофой, и освоить коэволюционные принципы, прообраз которых уже дан нам в системе внутренних гармоний космоса.
Одной из недавно провозглашенных стратегий западного модерна является противопоставление научно-технических революций — социально-политическим. Иначе говоря, людей хотят примирить между собой за счет совместного и все более эффективного ограбления природы. Сегодня Запад пошел, кажется, еще дальше: он хочет укрепить собственную консолидацию за счет заполучения новых ресурсов побежденного Востока. Императив срединного пути диктует прямо противоположное: только отказавшись от покорения природы, можно отказаться и от покорения себе подобных. Реабилитация природы как дышащего, живого космоса, а не мертвого конгломерата будет означать и реабилитацию человека, ибо путь дао — это единый антропокосмический путь. Те последовательные ступени технологического противостояния природе, которые в социально-историческом измерении выступали как формации, теперь предстоит оценить как ступени грехопадения или девиации — отклонения от центрального пути дао. История, противопоставленная природной эволюции и купленная ценой инволюции космоса — разрушения первичных гармоний, завела в тупик. Мы сегодня пребываем в точке бифуркации. Как пишет М. Чешков, "исчерпание социальной истории или социального человека, открывает путь как к нисходящей ветви мировой истории, так и к ее перерастанию в процесс, в ходе которого выработается соответствие между социальностью и природным началом человечества; на смену мировой истории приходит тот процесс, который Н. Н. Моисеев называет возвращением истории в эволюцию. Такова та перспектива, в которой происходит трансформация не-Запада..." { Запад — не-Запад и Россия в мировом контексте. Материалы Круглого стола // Мировая экономика и международные отношения. 1996, № 12. С. 15. }
Можно сказать, что западная парадигма пути в будущее — до того как она иссякла на наших глазах сегодня — была путем абсолютизации твердого начала "ян", означающего натиск и покорение. Сегодня этот путь завершается глобальными угрозами человечеству. Надо сказать, вся глобалистская и экологическая рефлексия на Западе обладает принципиальным изъяном: непереводимостью на язык альтернативных практик или решений.
Удивительное дело: все разрушительные интенции модерна являются инструментальными по своему духу — практически нацеленными и технологически оснащенными. А вот оппоненты этой интенции на том же Западе выступают скорее как социокультурные анестезиологи, "заговаривающие боль", нежели практические деятели, альтернативистские замышления которых могут быть переведены в серьезное русло. Все это означает, что реальный шанс, связанный с альтернативными практиками качественно иного будущего, переносится с Запада на Восток.
Таким образом, Востоку сегодня выпадает миссия, которая по своей общечеловеческой значимости сравнима с рубежом языческой (античной) и христианской эпох. Тогда ведь тоже античный западный мир, несмотря на все преимущества развитости и образованности, оказался не в состоянии ответить на вызовы времени. Сегодня на Западе уже нет потребности в будущем. Мало того, сама мечта о качественно ином будущем берется на подозрение как проявление опасного традиционалистского романтизма и утопизма и прибежище "неадаптированных". Это агрессивное неприятие будущего само по себе чрезвычайно опасно и способно породить экстремизм, которого, быть может, вообще еще не знала история. Перефразируя Достоевского, можно сказать, "Если Будущего нет, то все позволено". Если человечеству не удастся выстроить убедительную альтернативу будущего, то вся неустроенность, все противоречия современности, гнев и отчаяние "побежденных", захватнический азарт "победителей" — примут небывалую еще по масштабам асоциальную форму. Вопреки либеральной презумпции, связанной с попытками защитить цивилизацию от рисков "историзма", только историзм и способен предохранить цивилизацию от окончательного реванша варварства.