Борис Сопельняк - Смерть в рассрочку
Самое странное, со словами Сенина вынуждены были согласиться даже следователи, внеся в обвинительное заключение довольно рискованный абзац.
«Люди, с коими связывался Сенин и другие члены организации, давая оценку настроения населения, указывали на наличие сплошного недовольства основной массы казачества, крестьян, городского населения существующей властью и ее политикой».
Если Сенина расстреляли без тени сомнений, то с Ермаковым дело обстояло несколько иначе. Харлампия арестовали по старому делу о восстании, которое еще в 1925-м было прекращено производством по «целесообразности». Ничего нового, тянущего на «вышку», у следствия не было, и, судя по всему, рассматривался вариант осуждения Ермакова на какой-то срок. Иначе зачем в марте 1927-го производилось «освидетельствование гр-на Ермакова на предмет выявления состояния здоровья вообще»?
В деле этот акт сохранился. Вот он:
«Гр-н Ермаков Х. В., среднего роста, правильного телосложения, немного ослабленного питания, видимые слизистые бледного цвета. Со стороны внутренних органов отклонений от нормы не отмечается. Психическая деятельность нормальна. Видимых знаков венерического заражения и других заразных заболеваний не отмечается.
На основании наружного осмотра полагаю, что гр-н Ермаков Х. В. в момент освидетельствования страдает в легкой степени малокровием, практически здоров и следовать этапом может.
Судмедэксперт: Волковенко».Но нормального или, как иногда говорят, законного суда не получилось — в дело вмешалось всесильное ОГПУ, руководители которого вышли с ходатайством в Президиум ЦИК Союза ССР о предоставлении ОГПУ права вынесения Ермакову внесудебного приговора. Секретарь ЦИК Авель Енукидзе, конечно же, это ходатайство удовлетворил, а особоуполномоченный при Коллегии ОГПУ Фельдман скрепил его своей подписью. 6 июня 1927 года состоялось заседание Коллегии ОГПУ, разумеется, без присутствия подсудимого, на котором было принято постановление: «Ермакова Харлампия Васильевича расстрелять». 17 июня приговор был приведен в исполнение.
Напомню, что чуть больше года назад Михаил Шолохов впервые написал Ермакову, а потом так сильно его полюбил, что чуть ли не буквально списал с него своего главного героя, на котором держится весь роман. Представьте на минуту, что Шолохов не познакомился с Ермаковым… Значит, не было бы Григория Мелехова, ставшего символом вольного Дона. Не исключено, что был бы кто-то другой — другой, но не Мелехов.
Так соединились три судьбы: Харлампия Ермакова, Михаила Шолохова и Григория Мелехова. Судя по всему, Шолохов не остался безучастным к судьбе Ермакова, вероятно, он писал письма, звонил, требовал разобраться. Не случайно в одной из бесед Сталин раздраженно заметил, что если Шолохов не поумнеет, то «у партии найдутся все возможности подыскать для «Тихого Дона» другого автора».
Шолохову передали эти слова — и он поумнел. Так поумнел, что навсегда ушел в себя, не создав больше ничего, равного своему первому роману. Не зря же в одной из конфиденциальных бесед Михаил Александрович сказал:
«Вы не ждите от меня чего-нибудь значительнее «Тихого Дона». Я сгорел, работая над ним».
ДЕТСКИЕ ВОРОТА ГУЛАГА
Одурманенная и оболваненная страна пела песни, слагала гимны, чеканила шаг на физкультурных парадах. Счастье лилось рекой. Белозубые улыбки, веселые кинокомедии и бесчисленные портреты того, кому всем этим обязаны. Но особую заботу отец народов проявлял о подрастающем поколении. Как известно, лучший друг детей любил выражаться лаконично, афористично и туманно. «Все лучшее — детям!» — сказал в одной из речей товарищ Сталин.
Одни эти слова поняли так, что именно детям нужно отдать лучшие дворцы культуры, бассейны и стадионы. А другие, которым подчинялась страна, по имени ГУЛАГ, решили, что детям нужно отдать лучшие тюрьмы и самые добротные лагеря.
Сказано — сделано. Тем более что вождь с отеческой улыбкой наблюдал не только за тем, как детвора заполняет стадионы, но и за тем, насколько плотно она заселяет камеры. Что касается последнего, то об этом помалкивали, а вот заполненные до отказа стадионы и многочисленные пионерлагеря были на виду, поэтому каждый день советского ребенка начинался с своеобразной молитвы-заклинания. «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» — звучало по всей стране.
Счастливое детство… У кого-то оно, возможно, и было: комната в коммуналке, сатиновые шаровары, тряпичная кукла, драный футбольный мяч — чем не счастье?! Но была в те годы и другая жизнь: ночной стук в дверь, обыск, исчезновение отца, а потом и матери, чрезмерно заботливые дяди, которые хватали перепуганных ребятишек и отправляли в детские дома, которые без особых натяжек можно назвать филиалом ГУЛАГа. Одни оттуда возвращались, других переводили в колонии и тюрьмы, третьи, став лагерной пылью, превращались в ничто.
Знал ли кто-нибудь об этой жуткой мясорубке? Знали ли об этом те, кого принято называть совестью народа, то есть писатели, поэты и художники? Едва ли. Ведь ни в их личных архивах, ни в архивах журналов и газет нет ни одной поэмы, ни одного романа, картины или фильма, в которых бы рассказывалось о детях, попавших в застенки НКВД. Предположение о том, что все дрожали от страха за свою жизнь и не пытались описать это, пусть даже не мечтая о публикации, не выдерживает критики, потому что в лагерях оказалось немало писателей, не побоявшихся поднять свой голос, обличающий зверства сталинского режима.
Так неужели они бы не вступились за детей?! Еще как бы вступились. Но все эти парады, сборы, смотры, конкурсы, фестивали и олимпиады так застили глаза, что обратной стороны медали никто не видел. А она, эта сторона, была. Топор палача не разбирал, мужчина на плахе или женщина, старик или ребенок — он рубил. Бывало, правда, и так, что топор вроде бы случайно не попадал по нужному месту и вонзался совсем рядом с детской шейкой — ребенка милостиво отпускали на волю, но перепуганное насмерть существо всю оставшуюся жизнь не смело рта раскрыть и забивалось в самый глухой угол.
Передо мной два дела, извлеченных из архива НКВД. Две искалеченные жизни, две судьбы наивных, доверчивых и светлых детей той мрачной и странной эпохи.
Итак, дело № 240 071 по обвинению Храбровой Анны Андреевны. Заведено оно 23 февраля 1936 года, и вменялась шестнадцатилетней девочке печально известная 58-я статья, да еще пункт 10 — это контрреволюционная пропаганда.
И статья, и пункт вызывают самую настоящую оторопь — ведь именно по этой статье прошла вся творческая интеллигенция, как, впрочем, и многие политические деятели. Тысячи лучших людей страны были расстреляны, а многие миллионы сгинули в лагерях, неся клеймо этой жуткой статьи Уголовного кодекса РСФСР. Не могу не заметить, что всех этих людей считали самыми обычными уголовниками, так как политических преступлений в стране победившего социализма не было и не могло быть.
Так что же за преступление совершила Аня Храброва, чем подорвала устои государства, если удостоилась чести быть обвиненной по 58-й статье? Она написала стихотворение, или, как тогда говорили, стих. И не просто написала, а по простоте душевной вложила листочек в конверт и отправила по почте. Как вы думаете, кому? Самому товарищу Сталину. В конце она, наивный человек, сделала приписку:
«Прошу дать ответ по адресу: Москва, Можайский вал, 2-й тупик, дом 7, квартира № 1».
Ответ не заставил себя ждать и явился в образе сотрудника НКВД Смирнова, который предъявил ордер на обыск и арест, перевернул всю квартиру и доставил Аню в небезызвестную Бутырку.
Машина завертелась на предельных оборотах! Каких только подписей нет на всевозможных протоколах, справках и других документах, касающихся закоренелой антисоветчицы, — и начальника Управления НКВД по Московской области, и начальника оперативного отдела, и помощника прокурора по спецделам… В постановлении об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения говорится:
«Храброва А. А. изобличается в том, что написала стихотворение резкого контрреволюционного содержания и направила его почтой на имя тов. Сталина. Мерой пресечения избрать содержание под стражей».
А вот и сама мина, которая могла подорвать устои государства — пожелтевшая страничка, вырванная из ученической тетради. Неровный детский почерк, фиолетовые чернила, старательный нажим, масса грамматических ошибок… Более шестидесяти лет пролежала эта мина в подвалах НКВД, более шестидесяти лет боялись прикоснуться к этому жуткому свидетельству эпохи — так пусть наконец рванет!
«Москва, Центральный Комитет СССР (так в тексте. — Б. C.), тов. Сталину.
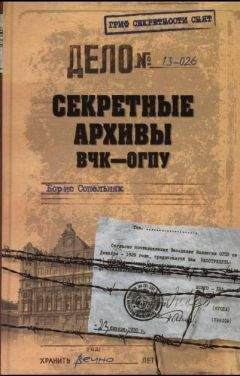
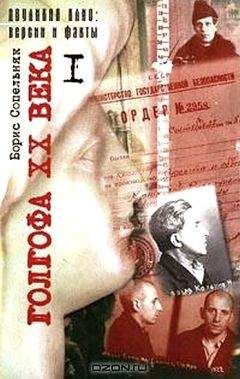

![Борис Акунин - Смерть на брудершафт (Фильма 9-10) [Операция «Транзит» + Батальон ангелов]](/uploads/posts/books/165373/165373.jpg)
![Борис Акунин - Смерть на брудершафт (Фильма 9-10) [Операция «Транзит» + Батальон ангелов] [только текст]](/uploads/posts/books/165415/165415.jpg)