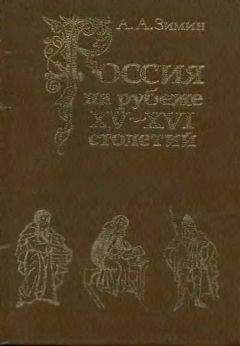Александр Пятигорский - Размышляя о политике
Психополитика может стать эффективной в отношении поставленных ею целей, только сделав последний шаг критики уже давно ставшего анахронизмом просвещенческого проекта развития и улучшения человека. Но этот шаг останется несделанным, если в психополитике не будет выработано — пусть для начала сколь угодно схематично — новое понимание личности. Это особенно важно сейчас, в ситуации критического упадка личностности политиков и лиц, социальной функцией которых является обобщенное выражение политической рефлексии. В новой, нетривиальной концепции личности не будет места двум основным предрассудкам, к которым обычно сводится феномен личности. Первый. Личность как член общества, противополагающий себя этому обществу. Второй. Личность — это субъект сознания, противопоставляющий себя человеческой природе, включая свою собственную. Обе эти версии личности, которые можно было бы условно назвать «романтической» и «йогической», категорически исключают третью версию, а именно личности как внешнего наблюдателя общества и себя самого. В нашей политической философии личность — это такой субъект политической рефлексии, который осознает социальные структуры и политические формы, а также и свою собственную психическую природу в качестве выпавших на его долю условий своего существования. Но при этом он никак не отождествляет их со своим сущностным «я» и не отождествляет свое экзистенциальное «я» с собой как субъектом политической рефлексии. Тогда в ситуациях психических изменений — от индивидуальной смены настроений до массового психоза — личность будет следовать своему способу осознавания этих изменений, а не тому, который навязывается структурой общества или взаимодействующим с этой структурой этосом. Это — весьма слабое определение личности, но, предельно упрощая вопрос, мы можем утверждать, что — в отличие от общепринятой, ставшей традиционной концепции личности как категории другого (индивидуального или социального) сознания, только задним числом приписываемого самому индивиду, — в нашей политической философии личность есть категория самосознания, а не психики.
Не существует типа человеческой психики, который бы обозначался словом «личность». Если принять это утверждение как одну из основных эпистемологических установок возможной (ее еще нет) психополитики, то неизбежен вопрос: а возможно ли вообще применение психологических критериев к личности или, попросту, возможен ли разговор о психологии и психосоциологии личности? Ответ весьма непрост: в свете нашего рассуждения о психических изменениях и их интерсубъективности личность может пониматься как возможный субъект этих изменений, тогда разговор о психологии личности будет иметь смысл. Однако в критической фазе психических изменений (как индивидуальных, так и социальных) сознание личности может оказаться настолько редуцированным к элементарным или деструктивным моментам (как это имеет место в схизмогенезе), что разговор о психологии личности потеряет смысл, потому что личность уже перестала быть личностью.
Основным содержанием психополитики остается локализация психических изменений, оценка их интенсивности, масштаба и прогноз их политических, социальных и экономических последствий. В этой связи отметим две господствующие в нынешней усредненной политической рефлексии тенденции, которые могут оказаться важнейшим или даже решающим фактором в возникновении и развитии психических изменений ближайшего будущего. Первая, получившая приевшееся название «глобализм», — тенденция к униформизации, унификации и стандартизации всех форм политической, социальной, экономической и культурной деятельности людей. О ней неинтересно говорить, поскольку, превратившись в идеологию, тысячекратно распропагандированную средствами массовой информации и пронизывающую сегодняшнее образование, она кажется безнадежно банальной. В глобалистской тенденции есть два весьма существенных момента. Первый. В своем развитии эта тенденция, с одной стороны, все более и более распространяется на бытовое и частное поведение (которое не является деятельностью в строгом смысле этого слова), а с другой стороны, все более агрессивно воздействует на такие идеологические структуры сознания, как религия и мораль, что неизбежно вызывает агрессивную реакцию последних. Второй момент. Выступая в виде единственной идеологической программы «постпросвещенческого проекта», эта тенденция объективно оказывается фактором, ограничивающим интеллектуальный горизонт человека.
Вторую тенденцию мы называем еще не вошедшим в употребление термином «дифференциализм». Она проявляется в стремлении индивидов, микросоциумов и макросоциумов к обособлению, изоляции от более общих и широкомасштабных (гиперсоциальных) структур и от навязываемых этими структурами стандартов и штампов политической рефлексии. Кроме того, дифференциализм проявляется в гораздо менее осознанном стремлении этосов к радикальной трансформации их взаимодействия с социальными структурами. В принципе пределом такой трансформации может стать полный отрыв этоса от социальной структуры, могущий иметь катастрофические политические, социальные и экономические последствия. Однако дифференциализм никак не сводится к простому прямолинейному отрицанию глобализма, но представляет собой особый, еще далеко не до конца понятый тип политической рефлексии, обладающий собственным положительным содержанием и постепенно вырабатывающий собственные политические идеологии. В отличие от глобализма дифференциализму трудно найти себе политическую форму, унифицирующую локальные версии и объединяющую дифференциалистов в одно, пусть сколь угодно фиктивное, сообщество. Достаточно представить себе «интернационал дифференциалистов» с лозунгом: разъединители всех стран, объединяйтесь! Но именно эта политическая аморфность делает крайне трудной для глобализма борьбу с дифференциализмом. Эта трудность усугубляется еще и коренной эпистемологической несходимостью глобализма и дифференциализма. Давайте разберемся, ведь любая война — от религиозных войн Реформации и Контрреформации до позавчерашней «холодной войны» (и вообще любая политическая борьба) возможна только в том случае, когда противоречивые политические цели двух борющихся сторон могут быть выражены в понятиях и терминах политического языка, общего для них обеих. Иными словами, когда обе политические рефлексии эпистемологически конвергентны. Нарушение этого условия мы и называем эпистемологической несходимостью. Эпистемологическая несходимость превращает политическую борьбу в чистую фикцию, полностью ее обессмысливает, отчего, кстати, эта борьба не становится ни менее яростной, ни менее жестокой. Борьба глобализма с дифференциализмом дает нам общий и пока еще слабый пример эпистемологической несходимости. Куда более сильным ее примером служит современный терроризм.
Возьмем такой случай. Сегодня в Ираке шиитские террористы упоенно убивают суннитов, а суннитские — шиитов. Американский (английский, французский, какой угодно) политикантитеррорист недоумевает: что же это вы, безумные, делаете, губите своих единоверцев, да еще вдобавок и соплеменников, неужели невозможно прийти к взаимопониманию и прекратить террор? Политик, в силу своей интеллектуальной неразвитости, не может отрефлексировать свое недоумение как эпистемологическую несходимость своего понимания с пониманием террористов обеих мастей. Отсюда его неспособность понять, что террористические акты в Ираке совершают не шииты, не сунниты, не мусульмане, не даже арабы, а террористы. Терроризм же ни в какой своей форме, по определению, эпистемологически не конвергентен ни с терроризмом какой-либо другой формы, чем данная, ни с анти-терроризмом в целом. Это и делает «антитеррористический проект» невероятно трудновыполнимым. Но возможно ли преодолеть эпистемологическую несходимость терроризма и анти-терроризма? Нам кажется, что наметка такой возможности содержится в самом приведенном выше примере. В обращении политика «вы, безумные», если не считать «безумные» фигурой политической риторики, можно видеть его интуицию о том, что перед ним — сумасшедший, совершающий террористический акт. То есть тогда террорист — это сумасшедший, психотик, который психологически (заметьте, не психиатрически, не в силу того, что он психотик) склонен к убийству. Ведь это — психологическая черта: подавляющее большинство психотиков ею не обладают, а подавляющее большинство людей, склонных к убийству (в частности, политиков), не являются психиатрическими больными.
Возвращаясь к нашему параграфу о схизмогенетическом характере терроризма, мы могли бы предложить такое рабочее определение: террорист — это субъект измененного, негативного психического состояния, наблюдаемый во время (в момент, в фазе) совпадения этого состояния со (не обязательно индивидуальным) схизмогенезом. Синхронность психологии и психиатрии здесь обязательна. В нашем понимании терроризма психология играет роль общего, не эзотерического, не ограниченного узким контингентом специалистов знания. Только с помощью этого знания будет возможным устранение эпистемологической несходимости. Сегодня терроризм — это крайний случай социальной манифестации психических изменений, притом что само слово «социальный» здесь относится в равной степени как к самому терроризму, так и к восприятию его не-террористами. Последние находятся с первыми в тесной психологической связке. Вообще говоря, терроризм — это не более чем частность в отношении тех двух тенденций, о которых только что шла речь и в описание которых мы ввели понятие эпистемологической несходимости. Первой задачей психополитики является исследование психических изменений в зонах их наибольшей концентрации и в фазах их наибольшей интенсивности. Второй, гораздо более трудной задачей будет прогнозирование развития этих изменений в направлениях нежелательных или опасных для социальных и политических инстанций и институтов, интересы которых в той или иной степени выражает сегодняшняя глобалистская геополитика. И, наконец, третьей, пока практически невыполнимой задачей будет политический контроль психических изменений. Мы считаем такой контроль утопическим по трем причинам. Во-первых, такой контроль неизбежно приведет к полной политизации науки психологии и, тем самым, к ее неспособности объективного исследования этих изменений. Но, в отличие, скажем, от генетики, физики и экологии, психология — пока, во всяком случае — социально не институционализирована, что также может затруднять такого рода контроль. Во-вторых, субъекту политической рефлексии, да еще и профессионально занимающемуся психополитикой, будет крайне трудно, в первую очередь, в его собственной рефлексии отделять психологию от политики и отвлекаться в рассмотрении психического от привычных идеологических штампов. Словом, чтобы контролировать психические изменения других людей, психополитику придется сначала отрефлексировать свою собственную психику как психику и себя самого как реального или потенциального субъекта этих изменений. В-третьих, надо учесть крайнюю трудность выработки психополитической стратегии при полном отсутствии у психополитики своей собственной методологии. Мы живем в мире психических изменений, скорость и разнообразие этих изменений далеко превышают скорость и разнообразие изменений в сознании человека и в режиме его интеллектуальной деятельности. Отсюда следует, что возможная методология психополитики должна быть прежде всего методологией редукции потенциальных и актуальных психических изменений к каким-то еще не найденным наукой трансформативным факторам, действующим одновременно на психику и на сознание.