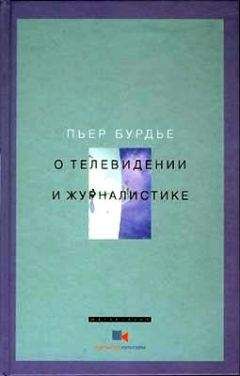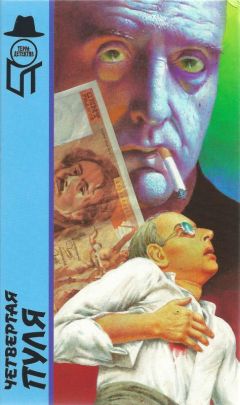Пьер Бурдье - Социология политики
Таинство служения возможно только при условии, если служитель скрывает осуществляемую им узурпацию и Imperium, которое она ему обеспечивает, представляясь простым служителем. Ибо использование обманным путем в личных интересах преимуществ своего положения возможно лишь в той мере, в какой оно скрывается, — это входит в само определение символической власти. Символическая власть есть власть, которая предполагает признание, т. е. незнание о факте творимого ею насилия. Следовательно, символическое насилие, осуществляемое служителем культа, возможно только при некоего рода соучастии, оказываемом ему вследствие незнания теми, кто испытывает на себе это насилие.
Ницше прекрасно говорит об этом в «Антихристе», в котором следует видеть критику не столько христианства, сколько института доверенных лиц и уполномоченных, поскольку служители католического культа суть воплощение доверенного лица. Вот почему он яростно нападает в своем сочинении на священников и их святейшее лицемерие, а также на приемы, с помощью которых доверенные лица возводят себя в абсолют, самоосвящаются. Первый прием, которым может воспользоваться священнослужитель, состоит в том, чтобы убедить других в своей необходимости. Уже Кант упоминал о ссылках на необходимость толкования текстов, их законного прочтения. Об этом же открыто заявляет и Ницше: «При чтении этих Евангелий нужно быть как можно более осторожным: за каждым словом встречается затруднение»3.
Этим Ницше хочет сказать: чтобы освятить себя в качестве необходимого истолкователя, посредник должен создать потребность в своих услугах. А для этого ему необходимо сослаться на трудности, с которыми только он один был бы в состоянии справиться. Доверенное лицо осуществляет, таким образом, — я опять цитирую Ницше — «обращение самого себя в святого». Чтобы дать почувствовать свою необходимость, оно Прибегает к стратегии «безличного» долга. «Ничто не разрушает так глубоко, так захватывающе, как всякий „безличный“ долг, всякая жертва молоху абстракции»4.
Доверенное лицо — это тот, кто возлагает на себя священные задачи: «Принимая во внимание, что почти у всех народов философ есть только дальнейшее развитие жреческого типа, нечего удивляться его жульничеству перед самим собой, этому наследию жреца. Если имеешь священные задачи вроде исправления, спасения, искупления человечества… сам, освященный подобной задачей, изображаешь тип высшего порядка!..»5. Эти приемы священнослужителей все имеют в своей основе лицемерие (mauvaise foi)[74] в сартровском понимании этого термина — самообман, «святую ложь», с помощью которых священнослужитель, определяя ценность вещей, объявляет абсолютно хорошими именно те вещи, которые хороши для него самого. Священнослужитель, считает Ницше, — это тот, кто осмеливается «назвать „Богом“ свою собственную волю»6. (Можно было бы также сказать и о политике, что он называет народом, общественным мнением, нацией свою волю.) Я вновь ссылаюсь на Ницше: «„Закон“, „воля Божья“, „священная книга“, „боговдохновение“ — все это только слова для обозначения условий, при которых жрец идет к власти, которыми он поддерживает свою власть, — эти понятия лежат в основе всех жреческих организаций, всех жреческих и жреческо-философских проявлений господства»7.
Этим Ницше хочет сказать, что уполномоченные приспосабливают к своим нуждам общечеловеческие ценности, завладевают ими, «конфискуют мораль»8 и присваивают себе такие понятия, как Бог, Истина, Мудрость, Народ, Свобода и т. д., превращая их в синонимы… В синонимы чего? — Самих себя: «Я есмь Истина». Они выдают себя за святых, освящают себя и тем самым возводят барьер между собой и простыми смертными, становясь, по словам того же Ницше, «мерой всех вещей».
Лучше всего функция священнического смирения проявляется в том, что я назвал бы эффектом оракула, благодаря которому уполномоченный заставляет говорить группу, от чьего имени он выступает, опираясь тем самым на авторитет этого неуловимого отсутствующего: самоуничтожаясь полностью во имя Бога или Народа, священнослужитель превращает себя в Бога и Народ. Я становлюсь Всем, когда Я превращаюсь в Ничто, и именно потому, что Я способен превратиться в Ничто, раствориться, забыть себя, пожертвовать собой, посвятить себя. Я только доверенное лицо Бога или Народа; но то, от имени чего Я выступаю, является Всем, и потому Я — Все. Эффект оракула — это, по существу, раздвоение личности: индивидуальная личность, «Я» самоуничтожается в пользу трансцендентного юридического лица («Я жертвую собой ради Франции»). Приобщение к духовному сану возможно лишь при условии настоящей метанойя, или превращения: обычный индивид должен умереть, чтобы вновь явиться в виде юридического лица. Умри — и стань институтом (именно это происходит при обрядах посвящения).
Как это ни парадоксально, но те, кто, чтобы стать Всем, превратили себя в Ничто, могут настаивать и на правомерности обратной зависимости и упрекать тех, кто остаются самими собой и выступают лишь от своего имени, в том, что они и фактически, и юридически являются Ничем (ввиду отсутствия у них чувства долга и т. п.). На этом основано право на обвинения и вынесение выговоров — одна из привилегий члена организации. Короче, эффект оракула представляет собой одно из тех явлений, которые кажутся нам легко понятными (все мы слышали о Пифии, о жрецах, истолковывающих прорицания оракулов).
Однако мы вовсе не способны его распознавать в ситуациях, когда кто-то говорит от имени чего-то такого, что он вызывает к жизни самим фактом своей речи. Целая серия подобных символических эффектов, ежедневных в политической жизни, основывается на такого рода узурпаторском чревовещании, состоящем в том, чтобы заставить говорить тех, от чьего имени говоришь, имеешь право говорить, заставить говорить народ, от чьего имени тебе позволено говорить. Редко бывает так, чтобы, когда политик заявляет: «народ, Классы, народные массы», он не прибегал к эффекту оракула, т. е. к трюку, смысл которого — в одновременном продуцировании высказывания и его расшифровке, в создании впечатления, что «я — это другой», что представитель, будучи всего лишь субститутом народа, действительно — народ, а значит все, что им говорится, это — сама правда и сама народная жизнь.
Узурпация, заключающаяся в факте самоутверждения в своей способности говорить от имени кого-то, — это то, что дает право перейти в высказываниях от изъявительного к повелительному наклонению. Если я, Пьер Бурдье, единичный социальный атом, находящийся в изолированном состоянии и выступающий только от своего имени, вдруг заявляю, что нужно сделать то-то и то-то, например, свергнуть правительство или отказаться от ракет типа «Першинг», то вряд ли кто за мной пойдет. Но если я окажусь в ситуации, определенной моим официальным положением таким образом, что смогу выступать «от имени народных масс» или a fortiori «от имени народных масс, науки и научного социализма», то все меняется. Переход от изъявительного к повелительному наклонению (последователи Дюркгейма, пытавшиеся основать мораль на науке о нравах, хорошо это почувствовали) предполагает переход от индивидуального к коллективному как основе любой признанной или могущей быть признанной формы принуждения.
Эффект оракула являет собой предельную форму результативности; это то, что позволяет уполномоченному представителю, опираясь на авторитет уполномочившей его группы, применить по отношению к каждому отдельному члену группы признанную форму принуждения, символическое насилие. Если я — человек, ставший коллективом, человек, ставший группой, и если эта группа есть группа, часть которой вы составляете и которая сообщает вам некоторую определенность и идентичность, благодаря чему вы действительно являетесь, скажем, преподавателем, протестантом, католиком и т. д., остается только повиноваться.
Эффект оракула — это эксплуатация факта трансцендентности группы по отношению к отдельным индивидам, осуществляемая одним из индивидов, действительно являющимся некоторым образом группой, хотя бы потому, что никто не может встать и сказать: «Ты — не группа». Правда, у других остается возможность основать еще одну группу и добиться признания себя в качестве ее доверенного лица.
Этот парадокс монополизации коллективной истины вообще лежит в основе символического принуждения: я являюсь группой, т. е. коллективным принуждением, принуждением коллектива по отношению к каждому его члену, я — человек, ставший коллективом, и тем самым я тот, кто манипулирует группой от имени самой этой группы; я присваиваю авторитет группы, которая дает мне право осуществлять по отношению к ней принуждение. (Заключенный в эффекте оракула элемент насилия нигде так не ощущается, как в ситуациях собраний людей, — в ситуациях типично экклезиастических, когда уполномоченные в обычном порядке представители, а в кризисных ситуациях сами себя уполномочившие профессиональные представители, — получают возможность говорить от имени всей собравшейся группы. Это насилие проявляется в почти физической невозможности диссидентских, расходящихся с другими выступлений против принудительного по своему характеру единодушия, обеспечиваемого монополией на выступления, и такими техническими приемами приведения к единогласию, как голосование по поводу сманипулированных резолюций поднятием руки или овациями).