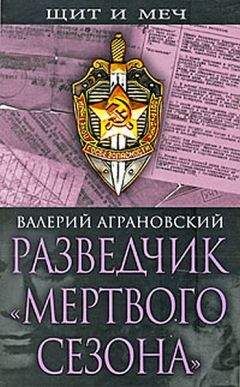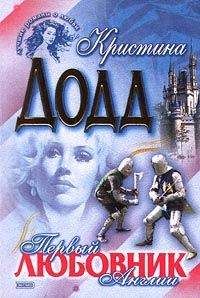Олег Кашин - Реакция Путина. Что такое хорошо и что такое плохо
О чем думает судья Морщакова
Тамару Морщакову, заслуженного юриста, многолетнего судью Конституционного суда, одного из авторов действующей российской Конституции — таскают теперь по допросам в рамках «дела экспертов» (звучит как «дело врачей»). Как какую-нибудь Марию Баронову, вызывают в Следственный комитет, и Тамара Георгиевна стучится в затонированное окошко бюро пропусков в Техническом переулке, встречает в этом окошке враждебный взгляд комитетовской женщины, потом поднимается в лифте, долго отвечает на вопросы следователя, потом приписывает внизу протокола — «с моих слов записано верно», еще ниже расписывается. Отмечает пропуск, уходит домой.
Интересно, вот хотя бы в часы этой унизительной процедуры допроса — она, Тамара Георгиевна Морщакова, вспоминает ли о том, что с ней и с Россией было двадцать лет назад? Садится в машину и, отъезжая от высотки Следственного комитета, думает: «Черт, вот зря мы тогда их не остановили, зря поддержали Указ № 1400, зря подписались под суперпрезидентской моделью государственного устройства, ох, зря». Понятно, что и без ее поддержки Ельцин все равно бы расстрелял Белый дом, протащил бы свою Конституцию, назначил бы преемника, и все было бы точно так же, как теперь. Но если бы она, лично она, Морщакова, не была соавтором вот этого государственного устройства, легко позволяющего устраивать «дела экспертов» и много всякого, еще более неприятного, тогда ей можно было бы с чистым сердцем посочувствовать, а так… А так получается популярный в свое время литературный сюжет, «Правая кисть» Солженицына или «Курсистка» Смелякова: старый большевик был когда-то беспощаден к врагам, не знал ни компромиссов, ни страха, ни упрека, а потом сам оказался в лагерях, и вот он уже теперь разбитый и униженный пенсионер, «беспомощными пальцами пытался вытянуть из бумажника свою единственную справку и никак не мог».
Одна из парадоксальнейших особенностей позднепутинского времени — массовое устройство Володиных и Сечиных прошлого на правозащитных и смежных должностях. Министр печати, своими приказами запрещавший газеты («День», «Правда» и «Советская Россия» — по тем временам это как у нас сейчас «Новая газета»), министр социальной защиты в самом социально неблагополучном 1992 году, префект центра Москвы времен первых рейдерских войн и много кто еще — все они в конце нулевых стали хранителями гражданского общества и прав человека. Людей, несущих персональную ответственность за сложившийся в России двадцать лет назад и существующий до сих пор политический режим, можно обнаружить по обе стороны кремлевской стены: кто-то работает «хорошим парнем» около власти, кто-то, напротив, давно стал критиком Кремля, но и тех, и других объединяет одно — абсолютное отсутствие сомнений и рефлексий по поводу того, что они делали двадцать лет назад. Когда кремлевский замполит времен предвыборной кампании 1996 года выступает с обличениями против нынешних политических порядков — задумывается ли он, что эти порядки придуманы и созданы в том числе и им?
Очень удобно реагировать на происходящие сейчас политические ужесточения, репрессивные меры, наглость власти и прочее, как будто бы они начались вдруг, из ниоткуда, вопреки всей предыдущей практике. Это действительно удобно, но куда деть 1993 и 1996 годы? «Мы не могли иначе, ведь тогда бы пришли Макашов и Баркашов, и всем бы было плохо», — этот аргумент с годами звучит все более стыдно. Сегодняшними людоедскими законами, нечестными выборами, коррупцией, государственной гомофобией и прочими радостями мы обязаны именно тем, кто двадцать лет назад строил «макашовоустойчивую» власть и построил — никому не подконтрольную, не сменяемую, без обратной связи, без совести. Меньше всего хочется сейчас охотиться на ведьм, но стоит наконец понять, что режим, при котором живет Россия сегодня, — ельцинский, а Владимир Путин — не более чем частное проявление этого ельцинского режима. Интересно, понимает ли это Тамара Морщакова, когда ждет своей очереди на допрос в Следственном комитете.
Путин на Болотной
Навальный — это я
Я очень хорошо помню тот день; подозреваю, что не забуду его никогда — ну, у каждого есть такие дни.
Настоящий сильный мороз, какой бывает только далеко от Москвы. Мрачный большой индустриальный город на южном Урале. Черная ночь, хотя уже семь утра. Мое такси за сто, что ли, дополнительных рублей проезжает без спроса на обкомовскую дачу на краю парка в самом центре города, почти как в Нью-Йорке. Завтрак с московской делегацией — придворными правозащитниками, теми самыми, которые теперь приставлены к Сноудену. Потом уже с делегацией — в «Газели» по окрестностям города. Сначала танковый полигон и казарма, больше похожая на тюрьму, и несколько десятков молодых зверей в солдатских армяках, прячущих глаза, когда их спрашиваешь, что случилось у них в казарме в новогоднюю ночь.
Потом больница, на меня, как на остальных членов делегации, надевают белый халат, но в реанимацию не пускают, зато я разговариваю с врачами. Потом в той же «Газели» — истерика военного прокурора из Москвы, присланного на пике конфликта прокуратуры и военного министерства сюда искать компромат на генералов и офицеров. Компромата у него нет, есть только солдат с отрезанными ногами и сидящий в СИЗО (гауптвахты упразднили тремя годами раньше) младший сержант, заставивший солдата с больными ногами сидеть всю ночь на корточках. «Обычная дедовщина», — фраза из моей статьи, которая станет потом даже строчкой в песне группы «Телевизор», да если бы только в ней.
Но я еще не знал ничего, тогда даже смартфонов не было (то есть были, но у меня не было), и по дороге к интернет-кафе в здании, — черт, когда я все это забуду, — сушечной с суровой вывеской «Наши суши сделаны из японского риса, а не из краснодарского, как в остальных кафе», — я звоню в Москву редактору, хвастаюсь, что у меня сенсация, и прошу добавить мне места на журнальной площади. В кафе я сначала (дедлайн) пишу колонку про фильм «Сволочи», и только потом, глубоко вдохнув, начинаю «тот самый текст»: «Полигон Бишкиль — 60 километров от Челябинска. Казарма № 1. Под потолком висит включенный телевизор с приглушенным звуком. Перед телевизором сидят солдаты батальона обеспечения танкового училища». Мне двадцать пять с половиной лет, журналистом я работаю чуть меньше пяти лет, и понимаю, что за эти пять лет сейчас со мной случилась главная репортерская удача, главная победа. Москва, а с ней вся страна, гадает, что там на полигоне случилось, а я единственный приехал на место и во всем разобрался. Пишу, пишу, пишу.
Пресса тогда была еще бумажная, журнал вышел через четыре дня, и вот тогда появились они. Всезнающие, ироничные, информированные, самодовольные — либо сочувственно похлопывая мне по плечу, либо презрительно сплевывая мне под ноги, они хором начали объяснять мне, что я мерзавец, негодяй и подонок, что я соврал, сподличал, отработал заказ, и что карьера моя закончена. Их реплики, от нейтральных до оскорбительных и от публичных до частных, сливались в один тошнотворно звучащий хор, и хор этот повторял, что я, Олег Кашин, утверждаю, будто тот солдат сам отрезал себе ноги.
В какой-то момент я даже начал верить, что что-то действительно пошло не так — в самом деле, может быть, я в своем тексте не очень четко выразился, и сам виноват. Я нашел адрес электронной почты того солдата, отправил статью ему — он поблагодарил и сказал, что все было так, как я и написал. Еще через год я сам поехал к солдату, мы поговорили, я написал еще одну статью — скорее для себя, чем для кого-то еще. Но все равно ничего никуда не делось, идут годы, но все равно время от времени выходит очередной человек, который говорит, что я писал, будто солдат сам отрезал себе ноги.
Свой собственный, персональный кровавый навет — жить с ним не очень здорово, хотя с годами, конечно, привыкаешь, и даже он, персональный кровавый навет, начинает приносить что-то вроде пользы. Если кто-то приходит к тебе с этим наветом, ты можешь его ни о чем не спрашивать, ты уже и так видишь, что перед тобой тупая мразь, которая ничего не видит и не слышит, верит в несуществующее и, значит, не стоит рассчитывать на то, что такой человек в состоянии адекватно оценить реальность. Дело того солдата стало для меня универсальным маркером, позволяющим отличить хорошего человека от плохого и сказать «до свидания» еще до того, как он откроет рот.
И я так давно живу с этим, настолько к этому привык, что не сразу и понял, что смущает меня в теперешней атаке фейсбук-интеллигенции на Алексея Навального. После того, как его вдруг выпустили из тюрьмы, как-то для очень многих лидеров общественного мнения он оказался категорическим неприемлемым — потому что ходил на «Русский марш», что-то говорил о Грузии в 2008 году, казарменно пошутил на какую-то тему и недостаточно почтительно отозвался о ком-то уважаемом. Дальнейшее понятно — перед нами новый Гитлер или, в крайнем случае, новый Путин, пускать его к власти нельзя, уж лучше пусть Собянин с Путиным, уж лучше пусть кто угодно, только не он. Та же интонация, то же самодовольство, то же всезнайство, то же хоровое пение, что и со мной семь лет назад. И даже люди в большинстве случаев буквально те же, хоть табличку рисуй — вот так он о Кашине писал в 2006-м, вот так он пишет о Навальном сейчас. Девять совпадений из десяти.