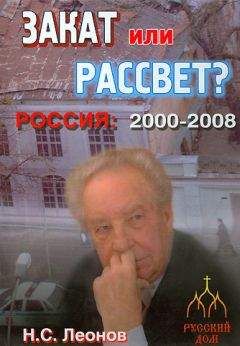Сергей Кара-Мурза - Демонтаж народа
Категории и понятия классовой борьбы у Маркса и Энгельса являются надстройкой над видением общественного исторического процесса как войны народов. Они сильно связаны с фундаментом, построенным из этнических понятий. Битва народов — «архетипический» образ Энгельса. Одно из своих ранних философских произведений он заканчивает так: «День великого решения, день битвы народов приближается, и победа будет за нами!» [Соч., т. 41, с. 226].
Для многих людей, воспитанных на советском истмате, будет неожиданностью узнать, что при таком переходе представления классиков о гуманизме и правах народов почти выворачиваются наизнанку — народы в их концепции делятся на прогрессивные и реакционные. При этом категории свободы и справедливости, как основания для оценки народов в их борьбе, отбрасываются. Народ, представляющий Запад, является по определению прогрессивным, даже если он выступает как угнетатель. Народ-«варвар», который борется против угнетения со стороны прогрессивного народа, является для классиков марксизма врагом и подлежит усмирению вплоть до уничтожения.
Надо ли нам сегодня знать эту главу марксизма, которая при его вульгаризации в СССР была изъята из обращения? Да, знать необходимо, хотя овладение этим знанием очень болезненно для всех, кому дороги идеалы, которые мы воспринимали в формулировках марксизма. Болезненно это по трем причинам.
Во-первых, Маркс и Энгельс являются в коллективной памяти большой доли старших поколений советских людей священными символами. Эти имена связаны с нашей великой и трагической историей, их страстные чеканные формулы замечательно выражали идеалы этих поколений и обладают магической силой. Всякая попытка подвергнуть какую-то часть учения Маркса и Энгельса рациональному анализу воспринимается как оскорбление святыни и отторгается с религиозным чувством.
Кроме того, тут есть и такая опасность. Возбудив неприязнь к марксизму в связи с каким-то одним положением, при нынешнем состоянии умов можно вызвать неоправданное отторжение от марксизма в целом, оторвать людей от источника важного знания. К тому же это отторжение еще более исказит видение нашей современной истории. Хладнокровно выявляя все неосознанно воспринятые от марксизма идейные мины, мы должны верно оценивать его воздействие на исторический процесс в целом. На это указывал С.Н. Булгаков, уже совершенно отойдя от марксизма. Он писал, что после «удушья» 80-х гг. XIX века именно марксизм явился в России источником «бодрости и деятельного оптимизма». Переломить общее настроение упадка было тогда важнее, чем дать верные частные рецепты. Содержащийся в марксизме пафос модернизации (пусть и по реально недоступному для России западному пути), помог справиться с состоянием социального пессимизма. По словам Булгакова, марксизм «усвоил и с настойчивой энергией пропагандировал определенный, освященный вековым опытом Запада практический способ действия, а вместе с тем он оживил упавшую было в русском обществе веру в близость национального возрождения, указывая в экономической европеизации России верный путь к этому возрождению» [55, с. 373].
Ворошить представления Маркса и Энгельса о народах больно и потому, что они замешены на ненависти и жестком расизме по отношению именно к русским и России. Это для нас вообще непривычно, мы долго не могли поверить в расизм немцев, уже сжигающих наши села, а уж слышать такое от людей, чьи портреты несколько десятилетий висели в России во всех кабинетах, вызывает психологический шок. Но надо его спокойно преодолеть, не поддаваясь уязвленному национальному чувству. Конечно, было бы проще изучить эту болезненную тему на примере какого-то другого народа (хотя наверняка и этот другой народ было бы жалко). Но так уж получилось.
Концепция народов изложена Энгельсом в трактовке революционных событий 1848 г. в Австро-Венгрии [56].38 Во вводной части Энгельс дает исторический очерк становления Австрии. Он подчеркивает, что это был процесс захвата славянских земель и угнетения славян. Вот главные для нас положения этого очерка: «Габсбурги получили те южногерманские земли, которые находились в непосредственной борьбе с разрозненными славянскими племенами или в которых немецкое феодальное дворянство и немецкое бюргерство совместно господствовали над угнетенными славянскими племенами…
Расположенная к югу от Судетских и Карпатских гор, Австрия в эпоху раннего средневековья была страной, населенной исключительно славянами… В эту компактную славянскую массу вклинились с запада немцы, а с востока — мадьяры…
Так возникла немецкая Австрия… Немцы, которые вклинились между славянскими варварами в эрцгерцогстве Австрии и Штирии, соединились с мадьярами, которые таким же образом вклинились между славянскими варварами на Лейте. Подобно тому, как на юге и на севере… немецкое дворянство господствовало над славянскими племенами, германизировало их и таким образом втягивало их в европейское движение, — так и мадьярское дворянство господствовало над славянскими племенами на юге и на севере…».
Как видим, Энгельс совершенно ясно описал характер национальных отношений немцев и венгров со славянами как угнетение и эксплуатацию, хотя и назвал захват славянских земель и «этническую чистку» этих земель уклончивым словом «вклинились». Определенно выражена и разница этнических статусов. Немцы — европейцы, народ, имеющий развитые государственность и социальную структуру (Габсбурги, дворянство), славяне — племена, которые подвергаются германизации («немцы вклинились между славянскими варварами»).
Энгельс задает целую концепцию примордиальной сущности разных народов, используя в качестве диагностического средства революцию. Он пишет: «Среди всех больших и малых наций Австрии только три были носительницами прогресса, активно воздействовали на историю и еще теперь сохранили жизнеспособность; это — немцы, поляки и мадьяры. Поэтому они теперь революционны. Всем остальным большим и малым народностям и народам предстоит в ближайшем будущем погибнуть в буре мировой революции. Поэтому они теперь контрреволюционны».
Таким образом, из представленной Энгельсом модели следует, что революция есть прерогатива не классов, а народов (наций). Причем не всех наций, а тех, которые «сохранили жизнеспособность» и являются носительницами прогресса. Энгельс пишет: «В то время как французы, немцы, итальянцы, поляки, мадьяры подняли знамя революции, славяне, как один человек, выступили под знаменем контрреволюции. Впереди шли южные славяне, которые давно уже отстаивали свои контрреволюционные сепаратистские поползновения против мадьяр; далее чехи, а за ними русские, вооруженные и готовые появиться в решительный момент на поле сражения» [57, с. 301].
Не немецкие, венгерские или польские рабочие революционны, а немцы, мадьяры и поляки. Не хорватские или чешские буржуазия и дворянство контрреволюционны, а «славяне как один человек». Это — взгляд через призму примордиализма. Революционность социальных групп — явление очевидно ситуативное, да и сами социальные группы есть общности весьма изменчивые. Если же говорят, что один народ революционен, а другой, наоборот, реакционен, то это характеристика сущностная.
Энгельс как раз и утверждает, что большинство народов Центральной и Восточной Европы к носителям прогресса не принадлежит. Они контрреволюционны. И отсюда — важнейший вывод об исторической миссии революции, которая в советском истмате была замаскирована классовой риторикой. Из рассуждений Энгельса следует, что мировая революция призвана не только открыть путь к более прогрессивной общественно-экономической формации. Она должна погубить большие и малые народы и народности, не принадлежащие к числу прогрессивных. Вчитаемся в этот прогноз основателей марксизма: «Всем остальным большим и малым народностям и народам [то есть, за исключением прогрессивных — С. К.-М.] предстоит в ближайшем будущем погибнуть в буре мировой революции».
Ясно, что так ставить вопрос можно только в том случае, если контрреволюционность народа рассматривается как примордиально данное свойство.
В виду перспективы «погибнуть в буре мировой революции» эти народы, в соответствии с концепцией Энгельса, просто вынуждены быть контрреволюционными. И хотя такое их отношение к революции, которая является для них смертельной угрозой, следовало бы считать вполне разумным и оправданным и оно должно было бы вызывать у гуманистов сочувствие, Энгельс подобный сентиментализм отвергает.
Он пишет в другой статье («Демократический панславизм»): «На сентиментальные фразы о братстве, обращаемые к нам от имени самых контрреволюционных наций Европы, мы отвечаем: ненависть к русским была и продолжает еще быть у немцев их первой революционной страстью; со времени революции к этому прибавилась ненависть к чехам и хорватам, и только при помощи самого решительного терроризма против этих славянских народов можем мы совместно с поляками и мадьярами оградить революцию от опасности. Мы знаем теперь, где сконцентрированы враги революции: в России и в славянских областях Австрии; и никакие фразы и указания на неопределенное демократическое будущее этих стран не помешают нам относиться к нашим врагам, как к врагам» [57, с. 306].