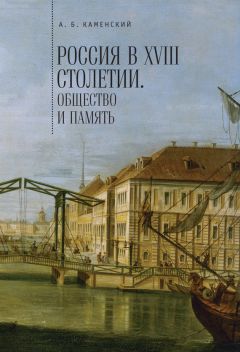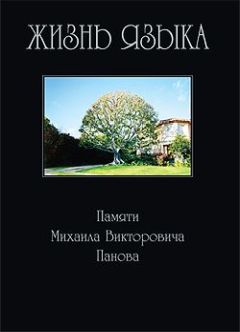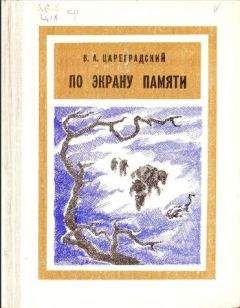Александр Семенов - Империя и нация в зеркале исторической памяти: Сборник статей
II
В начале 1990-х годов, когда в Германии заново открыли Мориса Хальбвакса [146] , возник неологизм «культура памяти». В настоящей статье этот термин используется не в том значении, которое придает ему Ян Ассман («соблюдение социального обязательства», т. е. как омоним ars memoriae – «искусства памяти») [147] , а в том, которое сформулировано Хансом Гюнтером Хокертсом («нестрогое собирательное понятие для совокупности неспецифически научных обращений к истории в общественной сфере») [148] и Кристофом Корнелиссеном («альтернатива слишком патетической формулировке „преодоление прошлого“») [149] . При этом данный термин (которому пора бы найти место в толковом словаре [150] , ибо сегодня его уже почтительно называют «важнейшим понятием немецкой истории культуры») строго отделяется от понятия «исторической культуры» с его политическими, гносеологическими и эстетическими коннотациями [151] . В то время как историческая культура в Восточной и Западной Европе формируется в некоторой степени под воздействием исторической науки , культура памяти , как правило, невосприимчива к тому, что пишут историки. В своих публичных проявлениях, особенно в Восточной Европе, культура памяти и по сей день является прежде всего продуктом государственных усилий по внедрению в общественное сознание тех или иных символов. Поэтому она является прямой наследницей исторической политики , которую до 1989—1991 годов проводили коммунистические партии [152] . «Культура воспоминания и историческая политика, – пишут Ева Ковач и Герхард Зееванн, имея в виду не только Венгрию, – это <…> две стороны одной медали» [153] . О том, что в посткоммунистических контекстах эти две вещи действительно неразличимы, свидетельствуют и построения Вольфганга Кашубы, призывающего к «этнологическому рассмотрению „исторической политики“» в Европе на пяти «уровнях практики»:
...Во-первых, публичный дискурс в СМИ по поводу (собственной) истории; во-вторых, пространственная и территориальная концепция репрезентации и символизации, поддающаяся изучению через места памяти и памятники; в-третьих, символическая борьба за знаки и интерпретации «эстетики памяти»; в-четвертых, канон ритуальных и эстетических практик «работы воспоминания»; и, в-пятых, набор форм и фигур передачи, таких как рассказы, мемуарные сериалы, фотографии на память, локальные и общенациональные учебники истории. [154]
Петер Райхель говорит о четырех исследовательских полях: 1) политико-юридический разбор прошлого, 2) история публичной культуры воспоминания и поминовения, 3) история эстетической культуры и 4) научное изучение прошлого [155] . У Кристофа Корнелиссена их снова пять : 1) общие социальные условия, 2) поколения, 3) нация и память, 4) вера и идеологии, 5) средства массовой информации. [156]
Публичная, историко-политически детерминированная составляющая культуры памяти и ее вторая половина – индивидуальная и семейная память после 1989 года, с одной стороны, стали взаимодействовать друг с другом, а с другой стороны – их дихотомия была взорвана политическим плюрализмом, сменившим партийную монополию. Именно это имеет в виду Андреас Лангеноль, когда говорит применительно к постсоветской России, что она просто «нырнула в плюрализм воспоминаний, не будучи подготовлена и приспособлена к этому ни структурно, ни культурно» [157] . Кристоф Корнелиссен услышал в Восточной Европе «призыв к „идеологической“ деколонизации, „предписанным воспоминаниям“» [158] . Соответственно, возникли и новые измерения культуры памяти, которые не являются ни строго «государственными», ни «приватными», а могут формироваться в недрах гражданского общества, партий и политических объединений или этнокультурных сообществ. Однако среди этих промежуточных измерений на передний план выдвинулись религиозно коннотированные факторы. С 1989 года важнейшую роль играет обращение к докоммунистическому прошлому, т. е. к арсеналу имперских и национальных историй, хранителями которых в некоторых случаях выступали эмиграция и диаспора.
Представленный в статье обзор – неизбежно недостаточно подробный – методологически ориентирован на предложенный В. Кашубой «этнологический способ рассмотрения»: наряду с «маяками» государственной исторической политики и культуры воспоминания, характерной для гражданского общества, здесь будет рассматриваться также индивидуальная, личная, частная и семейная память. Ведь культура памяти в обществе возникает, по словам Конрада Ярауша, «из взаимодействия индивидуальных рассказов и коллективных стилизаций <…> посредством выстраивания их в долговечные предания». Высказывание Ярауша верно не только применительно к изученным им примерам немецкой государственности, но и к восточноевропейским государствам. Ярауш утверждает, что национальные общественные культуры памяти «[являются], как правило, результатом конфликтного соперничества между разными партиями, пытающимися утвердить каждая свою версию прошлого и определить на ее основе уроки на будущее для всего сообщества».
III
Считается, что взлеты и падения современных диктатур, в особенности коммунистических, являются «главной характеристикой ХХ столетия» [159] . Для успешного преодоления тоталитарного прошлого следует извлечь из истории Федеративной Республики и объединенной Германии один основной урок: наряду с деятельным покаянием и transitional justice нужно наладить активную работу по вспоминанию, сопровождающуюся историческим изучением разных аспектов тиранического режима. Некоторые авторы полагают [160] , что эту «науку» – образцовую «одержимость [немцев] историей» – могли бы позаимствовать и другие народы [161] . Тимоти Гартон Эш в этой связи иронически замечает, что ФРГ задает «новый стандарт основательности» историографии [162] , подобный индустриальному стандарту DIN. [163]
Образцовому и прототипическому немецкому способу преодоления прошлого другие страны Европы противопоставляют иные, как правило менее жесткие, формы обращения с наследием диктатуры. Если мерить их на немецкий аршин, они позволяют ретроспективную релятивизацию и даже «забвение истории» и выглядят менее основательными. Однако они не обязательно менее успешны. То, что в Германии порицается как менталитет «подведения черты», в других обществах часто рассматривается как стремление «дать старым ранам затянуться», «смотреть вперед, а не назад», в то время как «одержимость историей», напротив, осуждается – и зачастую небезосновательно – как помеха движению в будущее. Например, когда первый некоммунистический премьер-министр Польши Тадеуш Мазовецкий в своей речи в сейме по случаю вступления в должность 24 августа 1989 года заявил: «Под прошлым мы подводим жирную черту» [164] , части Советской армии еще стояли не только у северных, восточных, южных и западных границ страны, но и на территории самой Польши. Не говоря уже о польских органах госбезопасности, которые остались со времен прежнего режима и были вполне дееспособными. Начать сводить счеты с уходящим коммунизмом в этот момент, по словам одного компетентного наблюдателя, «было бы самоубийством» [165] . Поэтому споры о прошлом «Польской Народной Республики» начались в Польше только после того, как СССР превратился в Российскую Федерацию [166] . Сопоставимый западноевропейский пример – Испания, где отошедшая было в 1975 году на второй план военная элита диктаторского режима в 1981 году попыталась вернуться на политическую авансцену. После падения диктатуры на протяжении целого поколения в Испании сохранялся заговор молчания, пока в 2000 году его не нарушило возглавляемое журналистом Эмилио Сильвой Общество по восстановлению исторической памяти, вскрывшее братские могилы и инициировавшее широкую общественную дискуссию. [167]
Еще не успело вырасти посткоммунистическое поколение в Восточной Европе, как дискуссии о прошлом всколыхнула книга американского социолога польского происхождения Яна Гросса (вышедшая в 2000 году), посвященная погрому в польском местечке Едвабне в 1941 году [168] . В Польше разгорелись ожесточенные споры об этом преступлении поляков по отношению к евреям, признание которого подрывало миф о польском народе как народе-жертве. Следом недавно созданный Государственный институт национальной памяти выпустил два объемистых тома с документами о произошедшем в Едвабне [169] . Все это показывает, что «забвение истории» и «одержимость историей» не исключают друг друга, а являются двумя сторонами одной медали. Эрнест Ренан еще 1882 году констатировал эту диалектическую связь между, с одной стороны, коллективным вытеснением травматических периодов насилия в истории и, с другой, их историческим прояснением и анализом – с другой. Он подчеркивал положительные последствия забвения и предупреждал, что «историческое исследование извлекает на свет божий все акты насилия, имевшие место при зарождении того или иного политического образования, включая те, последствия которых были самые благотворные», и поэтому «прогресс исторических исследований часто бывает опасен» [170] . Упомянутые польско-испанские параллели заставляют задуматься о том, насколько близки и взаимно похожи Западная и Восточная Европа с точки зрения исторической политики и культуры воспоминания. Или же прав Эстерхази, который подчеркивает структурные различия между Германией и Восточной Европой?