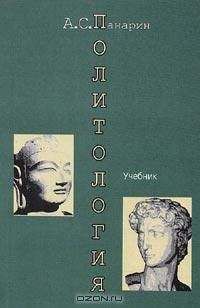Александр Панарин - Глобальное политическое прогнозирование
Февральская революция 1917 г. в России и октябрьская революция 1911 г. в Китае были подготовлены западническим по происхождению протестом против вековых порядков. Социальное реформаторство мыслимо в двух альтернативных формах: либо на основе сохранения национальной идентичности — и тогда реформаторы ищут в национальном прошлом эталон, искаженный впоследствии и подлежащий актуализации; либо они верят в "новую историю" и "нового человека", которых необходимо освободить от давления устаревшей традиции.
В первом случае исторический процесс воспринимается как непрерывный и преемственный, и речь идет о том, чтобы сохранить себя в перипетиях и вызовах истории; во втором он понимается как дискретный, а сама дискретность — как шанс творить совершенное на новом месте. В первом случае реформаторы ставят вопрос: почему мы оказались хуже наших отцов (предков) и допустили падение страны до данного (неудовлетворительного) состояния? Во втором — почему мы хуже Запада?
Это различие позиций принципиально в первую очередь в нравственном отношении: ведь в одном случае люди винят самих себя и их самокритика основывается на национальном достоинстве, обязывающем к совершенствованию в соответствии с великими заветами собственной культуры; в другом они снимают с себя вину и, следуя комплексам инфантильного сознания, перекладывают ее на отцов, не сумевших обеспечить им "светлое будущее". Пора уяснить себе, что феномен западничества в великих восточных культурах отражает инфантильные комплексы тех, кому ноша национальной истории оказалась не по плечу. И тогда они открывают для себя более легкий путь — заимствования чужой истории и чужой традиции. При этом в высшей степени характерно, что чаще всего "западники" приступают к реформам после того, как их страна терпит военное поражение. Так было и с русскими западниками, разлюбившими Россию после неудач японской (1904) и германской (1914) войн, так это было и с китайскими западниками — гоминдановцами.
Иными словами, люди, облученные идеологией западнического прогресса, перестают любить свою страну по-сыновнему и способны только к "рациональной" любви по расчету. Западник любит свою страну при условии, что она самая передовая и прогрессивная; если же она не отвечает прогрессивному эталону, то любовь превращается в ненависть и презрение. Разумеется, в Китае никогда не встречались те крайние формы национального отщепенства, которые заставляли искать опоры вовне, а главного врага — в своей собственной стране. Ни Гоминдан (национальная партия), ни Коммунистическая партия Китая до таких крайностей никогда не опускались. Но феномен утраты интимной духовной связи с национальным прошлым несомненно проявился и в Китае. Само разочарование в традиции под впечатлением внешнеполитических неудач страны свидетельствует о том, что мы имеем дело с секуляризованным, языческим сознанием, привязанность которого покупается земными дарами и успехом, эстетикой силы, вместо того чтобы питаться мотивами участия и сострадания.
Почему либеральные западнические реформы и в России, и в Китае привели к тоталитарной диктатуре?
Западнический либерализм не желает видеть в этих диктатурах собственного порождения, объявляя их традиционалистскими реставрациями. Этот уход от проблемы и перекладывание груза собственных заблуждений на и так уже поруганную и предельно ослабленную национальную традицию мешает и нравственному, и концептуальному просветлению народов.
На самом деле переход от первоначального реформаторского либерализма к тоталитаризму вписывается в логику модернистского проекта — логику секуляризации, радикализации, технологизации. Раз уж выбор произведен и речь пошла о "разрыве с прошлым", то, естественно, более принципиальными и последовательными будут выглядеть не "половинчатые" реформаторы, а неистовые радикалы. Радикализация вплоть до экстремизма — это судьба модернистского проекта, запрошенная им самим в момент разрыва с прошлым. Отметим и другой момент: логика секуляризации, прямо связанная с переходом от традиционалистской созерцательности к культу эффективности, не отделяется от технологического подхода. Тоталитаристы исправляют либералов не на почве традиционалистской ностальгии, а на собственной почве модерна: они обвиняют их в "чистоплюйстве" и нерешительности, в уходе от действия. И здесь обнаруживается, что эффективность властных технологий переустроителей мира повышается пропорционально степени разрыва с моральной традицией и другими обременительными традиционалистскими "сантиментами". Вопреки тому, что об этом говорит либеральная теория на Западе, политические технологии не являются морально нейтральными: они требуют именно "моральной революции" — в смысле высвобождения сознания от бремени морали и традиционных "табу". Вот почему модерн воюет с монотеистической традицией не с позиций нейтральности, а пригласив себе в союзники старых языческих богов грозы и войны, которые учат ненависти к нерешительным и слабым. Подобно тому, как в политической практике либеральная "постепеновщина" закономерно вытесняется революционаристскими "прорывами" и разрывами, в духовной сфере либеральное вольнодумие и скептицизм вытесняются языческим неистовством, вакханалиями святотатцев.
В Китае эти вакханалии стали утихать только после 1976 г.— со смертью Мао Цзэдуна и концом "культурной революции". В России последний всплеск языческого бунта против "старой морали" наблюдался при Н. С. Хрущеве, задумавшем завершить ликвидацию "пережитков" новым закрытием церквей, ликвидацией приусадебных участков в деревне и погромами гуманитарной интеллигенции.
Таким образом, первый цикл, связанный с противостоянием традиционализма и модерна, наши страны в целом прошли синхронно. Второй, посткоммунистический цикл дал уже существенные различия. Постсоветская элита в России, разочаровавшись в коммунизме, не нашла ничего лучшего, как вновь обратиться к Западу в поисках нового, "на этот раз истинного" великого учения. Иными словами, она пошла по замкнутому кругу: либерализм — коммунизм — новый либерализм.
В этом плагиаторстве сказались и большая хрупкость российской цивилизации, не успевшей завершить своего формирования до первой мировой войны и последовавших обвалов, и духовно-интеллектуальное и нравственное измельчание самой элиты, качество которой катастрофически ухудшилось после "великих чисток" большевизма.
В Китае же наметилась возможность ухода от бесплодных тавтологий выродившегося модерна. Посткоммунистический Китай одновременно мобилизовал и стратегию мимезиса западных заимствований (в первую очередь в экономической области), и стратегию анамнезиса — актуализации собственной традиции, прежде всего конфуцианской. Модернистской операции деления нации на непогрешимых прогрессистов и злонамеренных традиционалистов Китай предпочел ответственную национальную самокритику в духе классической традиции "исправления имен" и конфуцианской "искренности". "Искренность" означает мужество самопознания — умение искать причины не в конъюнктурных колебаниях внешней среды, а в собственной духовной природе, требующей просветления. Процедура искренности в интеллектуальном (теоретическом) и в моральном отношениях является несравненно более сложной, чем простое противопоставление просветленных адептов взятого напрокат нового учения зловещим традиционалистам коммунистического и националистического толка.
В первом случае реформаторский процесс требует мужества самокритики, глубокого знания собственной традиции и осмысления путей ее назревшей "реконструкции" на основе сохранения идентичности и преемственности. Во втором случае достаточно противопоставить себя презренному прошлому, а все неудачи и провалы — в том числе связанные с усердием новых реформаторов — объяснить кознями красно-коричневых.
Преимущества китайских реформаторов — по критериям моральной аутентичности и эффективности — сегодня очевидны и неоспоримы. Но прогнозирование означает не экстраполяцию сегодня наблюдаемого, а вопрошание о неизвестном, что предполагает проблематизацию существующего от имени иначе-возможного. В самом деле: сделал ли современный Китай свой окончательный выбор?
На это надо ответить, что "окончательные выборы" в нашу глобальную эпоху возможны только в контексте глобальных духовных сдвигов человечества, а параметры нового глобального сдвига еще не определились. Различие России и Китая кроется во временной ритмике великого мирового цикла. Посткоммунистические реформы в России начались под эгидой запоздалого либерализма — запоздалого потому, что речь идет о совершенно новой ситуации смены фаз цикла, в рамках которой либерализм явно приходится отнести к уходящей фазе. Поэтому для вхождения России в новую фазу, объективно уже начавшуюся, ей придется сменить обанкротившуюся элиту, в основном состоящую из запоздалых эпигонов западничества.