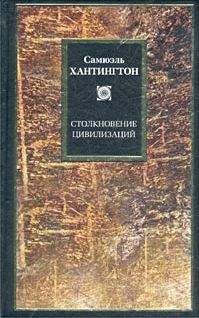Рауль Ванейгем - Трактат об умении жить для молодых поколений (Революция повседневной жизни)
Нет мёртвых сезонов, нет перемирий в вечной схватке между агрессорами и жертвами агрессии. Поток едва различимых знамений атакует того прохожего, который не одинок. Толки, жесты, взгляды переплетаются, сталкиваются, отклоняются от своего курса, отскакивают рикошетом подобно случайным пулям, убивающим тем более уверенно, чем больше нервного напряжения они создают. Мы только и делаем, что заключаем самих себя в странные скобки; подобно этим пальцам (я пишу в данный момент на террасе кафе), этим пальцам, бросающим на стол чаевые и пальцам официанта, подбирающим их, в то время как лица этих двух людей, словно сговорившись изо всех сил прятать те позорные действия, в которые они вовлечены, приобретают выражение равнодушия.
С точки зрения принуждения, повседневной жизнью правит экономическая система, в которой производство и потребление оскорблений приходят к равновесию. Старая мечта теоретиков свободного обмена достигает, таким образом, своего совершенства во взглядах некой демократии, обновлённой из—за отсутствия воображения у левых. Разве не странной, на первый взгляд, кажется ярость, с которой сторонники прогресса нападают на разрушенное здание либерализма, как если бы капиталисты, его признанные разрушители, уже не решили бы национализировать его и ввести планирование? На деле, она является не такой уж странной, если учесть, что концентрация внимания на критике уже подтверждённой фактами (поскольку уже общепризнанно, что капитализм медленно самореализуется в форме плановой экономики примитивной формой которой видимо, является советская модель) направлена на сокрытие того, что именно экономическая модель, просроченная и списанная со счетов, является той основой, на которой перестраиваются человеческие отношения. С каким беспокойным упрямством «социалистические» страны упорствуют в организации жизни по буржуазному образцу! Повсюду, это «вооружённое присутствие» в семье, браке, жертвоприношении, труде, отсутствии подлинности, будучи упрощённым и рационализированным гомеостатичным механизмом, сводит человеческие отношения к «равному» обмену уважением и унижениями. И вскоре, в идеальной демократии кибернетиков, все будут зарабатывать без каких—либо явных усилий какую—то часть бесчестья, которую досуг позволит распределять в соответствии с наилучшим регламентом справедливости; тогда справедливость распределения достигнет своего апогея, счастливы те старики, что доживут до этого дня!
Для меня — и, осмелюсь думать для некоторых других — в заболевании не может быть равновесия. Планирование — это лишь антитеза свободного обмена. Лишь обмен распланирован в нём, а с ним и взаимные жертвы, подразумеваемые им. Однако, если сохранить смысл слова «новшество», оно должно отождествляться с преодолением, а не с переодеванием. Для основания новой реальности не может быть иного принципа, кроме принципа дара. Я вижу в историческом опыте рабочих советов (1917, 1921, 1934, 1956 гг.), несмотря на его ошибки и на его нищету, как в трогательном поиске дружбы и любви, единственный вдохновляющий повод не отчаиваться в данной действительности. Но характер подобных экспериментов тщательно скрывается всем и всеми; умело поддерживается сомнение в их реальной значимости, даже в их существовании. Почему—то, ни один историк не потрудился изучить, как жили люди в самые экстремальные революционные моменты. Воля покончить со свободным обменом человеческими отношениями спонтанно выказывается в окольных негативных проявлениях. Когда установлена причина недомогания, удары более сильного и интенсивного заболевания уничтожают его.
В негативном смысле, бомбы Равашоля или, ближе к нам, эпопея Каракемады развеивают непонимание, царящее над глобальным отрицанием — явное более или менее, но явное повсюду — отношений, основанных на обмене и компромиссах. Я не сомневаюсь, испытав это много раз, что любой кто проведёт хоть один час в клетке ограничивающих отношений почувствует глубокую симпатию к Пьеру—Франсуа Ласнеру и его страсти к преступлению. Дело здесь абсолютно не в апологии терроризма, а в признании в нём самого жалкого и самого достойного действия, способного нарушить ход саморегулирующегося механизма социальной иерархической общины, обличая его. Запечатлённое в логике неспособного к жизни общества, убийство, зачатое таким образом, может предстать в виде дара. Именно это отсутствие страстно желанного присутствия описывал Малларме; тот самый, кто на суде Тридцати, назвал анархистов «ангелами чистоты».
Моя симпатия к убийце одиночке заканчивается там, где начинается тактика; но возможно самой тактике нужны исследователи, движимые индивидуальным отчаянием. Как бы то ни было, новая революционная тактика, та, что неразделимо основывается на исторической традиции и на практике индивидуальной самореализации, настолько же неизвестных, насколько распространённых, не имеет ничего общего с теми, кто будет лишь редактировать своими действиями жесты Равашоля или Бонно. Эта тактика, однако, лишь приговорит себя к теоретической спячке, если она коллективно не привлечёт тех, кого одиночество и ненависть к коллективной лжи, уже рацинальным образом привели к решению убивать других или убить себя. Ни убийц, ни гуманистов! Первые принимают смерть, вторые приговаривают к ней. Пусть встретится десять человек, решившихся на молнии насилия вместо долгой агонии выживания; и только тогда закончится отчаяние и начнётся тактика. Отчаяние — это детская болезнь революционеров повседневной жизни.
Восхищение, которое я испытывал в юности перед преступниками — я чувствую его снова сегодня, но не из—за устаревшего романтизма, а из—за того, что благодаря им на свет выходят те алиби, которыми прикрывается социальная власть для того чтобы не быть свергнутой прямо на месте. Иерархическая социальная организация напоминает гигантский рэкет со способностью, выведенной на свет благодаря анархистскому терроризму, становиться вне досягаемости для насилия, вызываемого ей, поглощая и переправляя жизненную силу каждого во многообразие мелкой несущественной борьбы. («Очеловеченная» власть не может позволить себе обращаться к старым процедурам войны и этнической чистки). Свидетелей обвинения вряд ли можно заподозрить в анархистских симпатиях. Также, биолог Ганс Сейль констатирует, что «существует, в той же мере, в какой исчезают специфические причины болезней (микробы, недоедание), возрастающая пропорция людей, умирающих от того, что принято называть болезнями износа или болезнями вырождения, причинёнными стрессами, т. е. возникающими от износа тела, вызванного конфликтами, шоком, нервным напряжением, противоречиями, изматывающими ритмами…». Человек не может избежать необходимости вести своё собственное расследование рэкета, который преследует его даже в его мыслях, даже в его мечтах. Мельчайшие детали приобретают важнейшее значение. Раздражение, усталость, наглость, унижение… cui prodest[1]. Кто выигрывает от них? И кто выигрывает от стереотипных ответов, что «Большой Брат Здравый Смысл» распространяет прикрываясь мудростью, как многие другие алиби? Должен ли я довольствоваться объяснениями, которые убивают меня, когда у меня есть всё чтобы выиграть там, где всё работает на то, чтобы я проиграл?
2Рукопожатие связывает и развязывает узел встреч. Жест заодно любопытный и тривиальный, которым по весьма точному выражению обмениваются; разве он не является фактически самой упрощённой формой социального контракта? Какие гарантии они пытаются обеспечить, эти руки, сжимаемые справа, слева, случайно, с либеральностью, которая кажется восполняющей недостаток убеждённости? Убеждённости в том, что правит соглаcие, что существует социальная общность, что жизнь в обществе совершенна? Нас не перестаёт мучить эта потребность убеждать в этом самих себя, верить в это по привычке, скреплять это силой рукопожатия.
Взгляд игнорирует эти удовольствия; он не признаёт обмена. В чьём—либо присутствии, глазам становится неловко, как будто в зрачках того, кто находится напротив, отразится их собственный пустой и бездушный вид; едва встретившись, они скользят мимо и пытаются обмануть, их линии боя сталкиваются на некой виртуальной точке, очерчивая угол, в котором открытость означает разногласия, фундаментальным образом ощущаемую дисгармонию. Иногда достигается согласие, глаза встречаются; это прекрасный параллельный взгляд королевских пар запечатлённых в египетской скульптуре, это туманный, влажный взгляд, излучающий эротичность любовников; глаза, пожирающие друг друга издалека. Чаще всего, взгляд отрекается от слабого согласия, скреплённого рукопожатием. Распространённая мода на энергично подкреплённое социальное согласие — причём «пожмём руки» принимает коммерческий смысловой оттенок — разве это не игра на чувствах, не способ притупить восприимчивость взгляда и адаптировать его к виду спектакля, чтобы он не бунтовал? Здравый смысл потребительского общества привёл старое выражение «смотреть вещам в лицо» к логическому завершению: смотреть стало не на что кроме вещей.