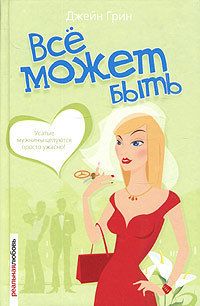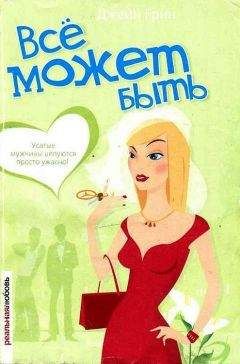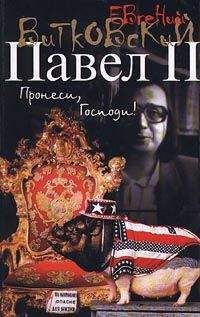Григорий Свирский - Ленинский тупик
Идя к трамвайной остановке, Александр оглядывался с улыбкой на окно Все рвется на простор. В Нюру….»
К ночи холод усилился. Окно общежития забелело изморозью густо, без узоров, будто прошлись по стеклу малярной кистью… Глядя в окно, Александр думал о сыне, о Нюре «Поздненько нынче задержалась…» Он проснулся от трезвона будильника за перегородкой. Плечо Нюры белело рядом, жестковатое, теплое. Подушка ее, как всегда, лежала на полу «И ночью-то как заводная…» — Он встряхнул всклокоченной головой, спросил жену благодушно, когда она пришла… — Когда?! — Александр приподнялся на локте. — Нюраш, вылезай ты из этого дела… Как какого! Профкомовского. И без тебя билеты да путевки распределят.
Нюра пододвинулась к мужу, улыбаясь со сна: — Кому-то надо, Шураня.
Александр глядел на Нюрину руку, лежавшую поверх ватного одеяла. От запястий до плеч Нюрины руки были смуглые, в конопатинках, как у девчонки. И пахучие, как у Щурани-маленького. Потому так идут Нюре платья-безрукавки. А кисти красные, точно ошпаренные, в трещинках; на них словно надеты перчатки из сыромятной кожи.
Александр гладил своими заскорузлыми пальцами белые Нюрины локотки, белую впадинку у ключицы. Нюра хотела что-то сказать, не сильно хлопнула по пальцам мужа, которыми тот коснулся ее груди, туго перетянутой, чтоб перегорело молоко, шерстяным платком. — Да погоди! Па-а…
Досадливый взгляд Нюры скользнул по перегородке, за которой слышались шорохи, сипловатый мужской смех. Александр, привстав на колено, сдвинул в сторону рычажок патефона, который стоял на тумбочке у изголовья; переставил иглу на середину пластинки — на весь, коридор грянули оркестровые тарелки; не знал Александр, что звуки военного марша по утрам, которые доносились из его угла со стенками из простынь, неизменно вызывали грубоватые шутки каменщиков…
Одеяло лежало на полу. Простыня сбилась к ногам. Нюра натянула одеяло на грудь, закинула руки за голову. С четверть часа лежала молча, наконец повернула голову к мужу.
— …Да, припозднилась вчера, Шурань! А отчего, знаешь? Беру билеты в кассе, а наверху музыка… Хорошая такая музыка! Контролеров у дверей нет. Как тут не заглянуть хоть на минутку! На сцене старичок, лет под сорок, может, и поболе. Галстук бабочкой. Слушаю его, и, знаешь, берет меня зло. Чайковский, Глинка, Калинников… Именами сыплет, как из мешка. И все, говорит, великие. Все великие. А чем они великие? Ну, думаю, ладно, мужа рядом нет. Сказал бы: «Глушь нерадиофицированная».
Помнишь, двадцатка осталась, когда Шуране делали покупки. Я еще хотела тебе галстук взять. Подходящего не оказалось. Я их на абонемент и жахнула. Ругать не будешь, да? И Тоню подбила, и других. Один Силантий — ни в какую… Все ж от пригласительного у меня не отбоярился. На кинофестиваль.
— Силантий?!
О Силантий рассказывали, что он за четверть века смотрел только одну кинокартину — «Чапаев». На улице ее крутили, возле подмостей. Старик признавал достойным зрелищем лишь заседания народного суда, которые посещал столь же регулярно, как тетка Ульяна храм божий. «В кино за деньги, — говаривал он, — и все неправда. В суде бесплатно — и все правда».
— Силантий?!
— А что? Поломался стар… — Она едва не сказала по привычке: старшой. Нынче старшой не он. — Старик поломался. Не без того… Знаешь, Шураня, — протянула она певучим голосом, — раньше, бывало, раздашь билеты задаром и сидишь во всем ряду одна. А теперь и дорогие билеты из рук рвут. Особенно, если комедия какая…
Александр усмехнулся уголком рта. — Не туда ты ломишь, Нюра. Тебя вчера послали за билетами. Тихон тут же отметил это во всеуслышанье. Гуща взвился: «Она гдей-то бродит, а мы ее обрабатывай…»
Нюра порывисто села, обхватила руками колени.
— Ка-ак так?! Гуща меня в цехком подсаживал, надрывался с заднего ряда: «Нюрку! Нюрку!» А теперь недоволен? Да и ты… вроде?
Александр ответил не сразу, вяло: — Надо было на кого-то хомут надеть. Ну, и вытолкали, кого помоложе… Хватит того, что меня в две комиссии запихнули… — Он снова помолчал. — Ни к чему это все, Нюраша. Силы тратишь, время…Брось ты меня агитировать, Нюраша-дураша! Все слова — я усвоил. Профсоюзы — школа управления, школа хозяйствования, школа коммунизма. Можешь проверить… вон тот том, на нижней полке, второй справа… О профсоюзах я читал. И еще раз о профсоюзах читал. Про великий почин — раза три, не меньше: для себя и для экзамена зубрил. Этого философа… как его? листал. Помнишь, я его книжку нашел на чердаке дома, который мы ломали? В желтенькой обложке. Фамилия вроде Озерова. Только на французский лад. Прудон! Заглавие заинтересовало: «Кража» Не дотянул, до марксизма старик, а — врезал: «Собственность — кража!» Прибили бы такую табличку к хрущевской даче, рядом с номером… На старости руки начнут трястись — пойду лекции читать: что такое профсоюзы и с чем их едят… — Александр взглянул на жену нетерпеливо. — Вылезай ты из этого дела, Нюра, вот что я тебе скажу! Пускай Тихон суетится. Вообще начальство. — Он сморщил нос в грустной усмешке. — Начальство — оно газеты читает, радио слушает. Наше дело каменное. Слов не любит.
Когда муж усмехался так вот, морща свой широкий, приплюснутый нос, он на какое-то мгновение вызывал в памяти Нюры Шураню-маленького, глядевшего вслед ей из окна яслей. Словно бы и Шура, как и сыночек его, грустно взирал на мир из-за толстого стекла, приткнувшись к нему носом. Но уже в следующий момент дотемна обожженное морозом лицо мужа преображала улыбка, добрая и чуть снисходительная, уголком рта, — улыбка человека себе на уме.
Нюру задевала эта улыбка; за ней чудилось неизменное: «Зряшный разговор, Нюраша. Стоит ли с тобой об этом…» Каждый раз, когда Шура улыбался так, в Нюре подымалось раздражение. Старики — одно дело. Гуща — темнота. Закоренелый единоличник. Говорят, и на стройку-то ушел, чтоб в колхоз не вступать. Силантий — молчун. С чем ни подойдешь, одно твердит: «Не зудят — так и не царапайся..» А Шураня?! В девятый класс ходил. Механик. Мотоциклист. А книг прочитал!.. Мог бы ей помочь разобраться кое в чем. У нее путаница в мыслях. Тихон на подмостях работает — не бей лежачего. А как слово дать кому от имени строителей так Тихону. Выбрать куда — снова Тихона. Тоня права, на нашей шее едет — Нюра кинула взгляд на мужа, протянула горестно: — Как же, по-твоему, жить, Шураня? Иль по святому Силантию «Не зудят — так и не царапайся»? — Она круто, всем корпусом, повернулась к нему. — Но ты же сам, помнишь, в новом клубе…
— Так это… опережение зажигания получилось. Не знаешь, что такое опережение зажигания? Когда мотор у машины стреляет, выхлоп черный, вонючий. Треску — на всю улицу, дела — ни на грош. Машина останавливается. Вот что такое опережение зажигания… — Он помолчал. — Ну, выскочил я тогда. Помогло бы Некрасову, будь он обычный крановщик?! Как мертвому припарки. «Профсоюз!.. Профсоюз!..» Профсоюз у нас — усохший гербарий. Надо жить просто, Нюраша. Как люди, так и мы.
Нюра пристукнула кулачком по колену. — Ну, а люди ложь — и мы то ж?! А?
Александр потянулся за новыми, тщательно отглаженными, «бригадирскими», как он их называл, брюками, перекинутыми через спинку стула, начал одеваться. Нюра сдернула с его ноги модную, суженную книзу, брючину, воскликнула в сердцах:. — В брючки влезешь — лови тебя. Ответишь — получишь брюки.
Уголок рта мужа дернулся. — Ты видала, как лиса в холод спит? — протянул он неторопливо. — Обертывается в свой хвост вокруг тела. И ей тепло. И ты в свои идеи обернешься, и хорошо тебе. А мне во что заворачиваться? У меня, как видишь, хвоста нет… Какая еще статья о постройкомах? Где?.. Сейчас о чем не пишут. Написать обо всем можно. Дай брюки. Опоздаю в контору., Дай, говорят!.
— Не дам! Шагай так!
Он оглянулся на нее, улыбаясь своей отдаляющей улыбочкой.
«Коли дура, так образумь!» — едва не вскричала Нюра.
Александр шагнул к дверям, наступил на завязки кальсон, чертыхнулся. Нюра с размаху швырнула ему брюки: — На! А то как отличат в тебе бригадира…
Александр ответил раздраженно, пританцовывая на одной ноге и натягивая брюки: — Не ты меня поставила! И не перед тобой мне ответ держать!
В постройкоме Александр узнал — разговор предстоит о Тоне. Опять о Тоне?! Что стряслось?..
Вслед за Александром в свежевыкрашенную и уже запущенную — на полу окурки, сор — комнату постройкома вошел Игорь Иванович. Кивнул Александру. Жестом предложил ему перебраться от дверей поближе к Тихону. Александр отрицательно качнул головой.
Тихон Инякин высился над канцелярским столом, накрытым выцветшим кумачом, как пожарная каланча. Размышляя о предстоящем опросе-допросе, прошагал туда-сюда вдоль стенки в своих новеньких чешских бурках, затиснутых для сохранности в галоши. На галошах белели опилки. Сонным голосом он спросил Тоню Горчихину, которая топталась в дверях с тетрадным листочком, видно, заявлением в руках: — Как твой случай разбирать, Горчихина, — по закону иль по совести?