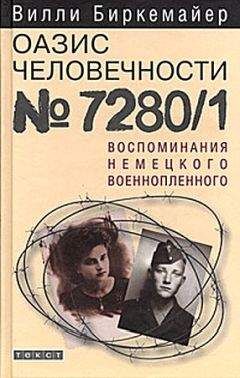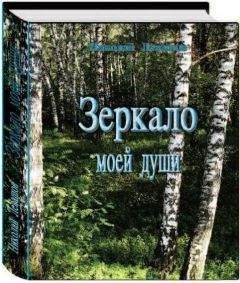Вилли Брандт - Воспоминания
Случилось так, что я оказался поблизости, когда Оруэлл в середине марта 1937 года был тяжело ранен. Я как раз направился на арагонской фронт, чтобы самому все увидеть и услышать. Части республиканцев уже в течение нескольких недель пытались овладеть той высотой под Уэской, о которой пишет в своих мемуарах Илья Эренбург. Ночью я занял наблюдательный пост в покинутом крестьянском доме. Высоту взяли, но потом началась контратака. Вражеская артиллерия при поддержке моих земляков из легиона «Кондор» пристреливалась по штабу, при котором я находился. Незадолго до этого я бросил курить, но между вторым и третьим разрывом снарядов снова закурил. В своей «Homage to CataIonia» («Памяти Каталонии») Джордж Оруэлл обвиняет свою страну в том, что она отдала Испанию на растерзание фашистам, и бичует коммунистический террор, вызвавший у него видения ужасов тоталитарного режима, а меня раз и навсегда убедивший в том, что нет ничего более ценного, чем свобода, и защищать ее нужно от нападок с любой стороны. Мой собственный опыт, ведь я мог судить не только со слов третьих лиц, убедил меня в том, с какой легкостью можно забыть о последних сдерживающих факторах, когда вступаешь на путь пренебрежения человеческим достоинством и основными нормами правового государства.
В Барселоне я подружился с Марком Рейном. Он был сыном русского социал-демократа Рафаила Абрамовича, эмигрировавшего в 1920 году на Запад. Марк вырос среди берлинской рабочей молодежи и был полон левых, но отнюдь не коммунистических надежд. Он уехал в Испанию и поступил на службу правительства Каталонии как техник-связист. Мы обменивались с ним мнениями и опытом, вместе ходили на собрания. Так было и 9 апреля 1937 года. Поздно вечером мы шли по Рамблас и распрощались у отеля «Континенталь», в котором он жил. Через день у меня в «Фалконе» появился наш общий знакомый. С озабоченным видом он сказал мне, что Рейна в гостинице нет, постель не разобрана. Меня это насторожило. Но что было делать? Прошло несколько дней. Знакомый пришел опять и сообщил: Марк написал ему письмо по-русски, а владельцу гостиницы с кем-то передал записку на французском языке. В ней говорилось, что в тот вечер он еще раз вышел подышать воздухом, встретил товарища, тот пригласил его съездить на автомобиле в Мадрид, и он согласился. Следовательно, несколько дней его не будет. Не такая уж неправдоподобная история, имея в виду, что добраться до столицы было не так-то просто. Но почему он ничего не взял с собой, даже зубную щетку? Кроме того, мы не могли отделаться от ощущения, что написанная от руки дата подделана. Значит, его похитили? Но почему? И кто? Может быть, удар нанесла секретная служба коммунистов? Скажем, из-за отца, Абрамовича, дружившего с видными европейскими социал-демократами?
В дело вмешались влиятельные партии, в первую очередь французы, а также бюро Социалистического Интернационала. Я со своими скромными возможностями пытался что-то прояснить и дошел до высокопоставленного представителя Коминтерна, обосновавшегося в «Casa Carlos Marx»[5]. Тогда я, конечно, и знать не мог, что это тот самый Карл Мевис, которого так возвеличили потом в ГДР. С трудом скрывая волнение, я пытался ему доказать, что коммунисты, если похищение — дело их рук, просто сошли с ума. Им следует отвести от себя все подозрения и помочь найти виновных. «Товарищ Арндт» прикинулся глупцом. Может быть, в этой истории замешана женщина, спросил он. Или анархисты? Вскоре в Барселону приехал отец Марка, который и так уже достаточно пережил. Я никогда не забуду его вид! Он и слышать не хотел о каких-то догадках, а только знать: где его сын?
С Мевисом я встретился вновь во время второй мировой войны в Стокгольме, где он руководил немецкими коммунистами и старался при этом казаться весьма умеренным. В 1947 году — я еще числился на норвежской службе — у нас состоялся с ним разговор в Берлине, где ему поручили руководить окружной организацией СЕПГ. Об этом он вопреки истине напишет, что в то время меня устраивало подобное единство. Позднее — я был федеральным канцлером, а он послом в Варшаве — Мевис, как ни в чем не бывало, передал мне привет с выражением своего почтения.
Выяснилось, что Марк Рейн, по всей вероятности, был похищен, взят под стражу и подвергнут истязаниям теми, кто находился в подчинении у советского аппарата, а когда вокруг этого дела возникло слишком много шума, его убрали. А может, сперва доставили на борт русского судна?
Этот случай чуть не свел меня с ума. Оставаться дальше в Испании? Я терзался в сомнениях, когда возникла новая опасность. Из-за назревавшего обострения обстановки (напряженность возникла в рядах левых, так как Франко еще не сделал свой ход в Каталонии) были запрещены все собрания по случаю 1 Мая. Но это не помогло. 3 мая началась бессмысленная междоусобица, жертвами которой в течение нескольких дней стали сотни людей. Региональное правительство, в котором большинство к тому времени составляли коммунисты, взяло под свой контроль телефонную станцию и телеграф, которыми ранее владели синдикалисты, а за ними и всю Барселону. Все, кто не вписывался в схему, были оклеветаны, подвергнуты преследованию или просто уничтожены, в том числе и союзники анархистов — люди из ПОУМ. Их вожаки, такие, как Андре Нин, значились в черных списках ГПУ под первыми номерами. Альбер Камю назвал пытку и убийство Нина «поворотным пунктом в трагедии XX века». В мае казалось, что обстановка стабилизировалась, но уже в начале июня я больше не решался ночевать в гостинице. Собрав пожитки, вернулся в Париж, где рассказал и описал «Год войны и революции в Испании». Я постарался как можно точнее воссоздать «сумасбродные установки» Коминтерна, стремившегося «к уничтожению всех сил, не желавших приспособиться к его идеологии», и обосновал свой скептицизм относительно дальнейшего хода войны.
Какой гигантский опыт я накопил к тому времени! Во встрече Лондонского (левосоциалистического) бюро, в состав которого входила и СРП, летом 1937 года в Лечворте, в Англии, принимала участие и Джен Маурин, сестра непримиримого антисталиниста Бориса Суварина. Мы думали, что она вдова убитого руководителя ПОУМ, но на самом деле Хоакину Маурину удалось скрыться, и она как бы заняла место своего мужа. Но в то же время, обращаясь ко мне лично, она взывала к моей совести: не пора ли сказать «прощай» этой сомнительной политике и найти себе более приличное занятие? Я объяснил ей — да и самому себе, — что отступление — только один из двух возможных выходов. Ведь если наступит время «после Гитлера», разве на повестке дня не будет прежде всего стоять вопрос борьбы за великую и свободную социал-демократию в Европе? О том, что организационная практика Коминтерна «противоречит самым элементарным принципам рабочего движения», я писал в обзоре «Коминтерн и коммунистические партии», вышедшем в 1939 году в Осло. Разве речь шла не о том, чтобы помочь пробиться этим «самым элементарным принципам»?
Когда я, прибыв окольным путем через Англию и Швецию, вновь ступил на норвежскую землю, все было иначе. Я с головой окунулся в работу по оказанию помощи Испании (опорой которой в первую очередь были профсоюзы), заключавшейся в организации поставок медикаментов и продовольствия. В 1939 году испанский комитет был преобразован в организацию «Народная помощь», поддерживавшую отныне храбрых финнов в борьбе против русских агрессоров и удачно сочетавшую благотворительность рабочих с гуманитарной помощью из других стран. Я окончательно утратил всякую склонность к внутрипартийным раздорам и сектантству. В 1938 году, в день рождения Мартина Транмэла, бывшего тогда главным редактором партийной газеты, а по сути — первым человеком в партии, я писал: «Спасибо тебе за то, что ты многим из нас вернул надежду». Теперь я полностью приветствовал готовившуюся новую норвежскую программу, которая была принята в 1939 году. Марксизм уже не являлся обязательным, и мы говорили больше не о классовой партии, а о крупной демократической партии, партии реформ. Как ни странно это звучит, но после месяцев, проведенных в Берлине и Барселоне, я чувствовал себя более уверенным в правоте нашего дела и перестал бросаться из стороны в сторону в вечных поисках.
«Итак, мы должны решительно и бесповоротно стремиться к слиянию с активными социал-демократическими силами», — требовал я в циркулярном письме, разосланном к началу 1938 года. Письмо вызвало немало возмущения среди членов СРП, ибо «активные социал-демократические силы» — это и были представители той, некогда покинутой нами, родной партии. В тот же год я посетил в Париже Эриха Олленхауэра и обсудил с ним вопрос о воссоединении наших молодежных организаций. Меня уже мало заботили последние конвульсии Немецкого народного фронта, возглавляемого Генрихом Манном. За несколько лет до этого, когда всех охватило лихорадочное стремление к организации народных фронтов, в Париже объединились немецкие эмигранты, литераторы и политики. Были приняты манифесты, которые я полностью поддержал, в том числе и во время моего пребывания в Берлине. Эти манифесты хорошо читались, но так и остались на бумаге. Попытка создать народный фронт без самого народа граничила с наглостью. Так же как и заявление, что немецкий народ только того и ждет, как бы поскорей избавиться от Гитлера и «германской системы произвола». Допускать возможность совместных действий с людьми из компартии, группировавшимися вокруг Вальтера Ульбрихта, было бы по меньшей мере наивно. Генрих Манн не замечал, какая там велась игра, а между тем его именем злоупотребляли даже в 1938 году, когда среди организаторов подобного фронта остались почти исключительно сторонники и «стипендиаты» коммунистов, которые и провалили все дело.