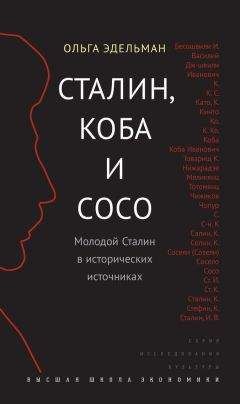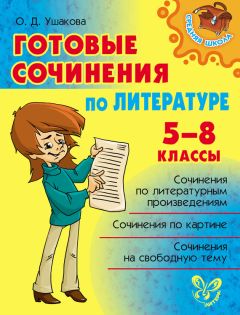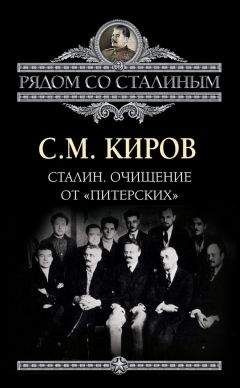Сергей Витте - По поводу непреложности законов государственной жизни
И действительно, в ответ на призыв Правительства 5 земских собраний (Харьковское, Полтавское, Черниговское, Самарское и Тверское)[161] заявили о необходимости созвать земский собор. Из этих заявлений целиком проникли в печать три: Харьковское, Черниговское и Тверское. См. «Мнения земских собраний о современном положении России» (Берлин, 1883 г.). В предисловии к этой брошюре сказано, что помещенный в ней очерк был первоначально напечатан в сентябрьской книжке «Русской Мысли» за 1882 г., но не был пропущен цензурою[162].
Адрес Харьковского земства, где во главе движения стоял проф. Гордеенко, изъявлял готовность бороться «за общественный порядок, собственность, семью и веру», но заявлял, что при существующем положении земские силы не имеют никакой организации: «Всемилостивейший Государь», гласил в заключение адрес, «дай Твоему верному народу то, что Ты дал болгарам».
Насколько можно судить по отрывкам, проникшим в печать, в таком же роде был и ответ Полтавского земства, которое также изъявляло готовность «вырвать зло с корнем и побороть пропаганду, предпринятую врагами Правительства и общества», но только под условием организации общественных сил в правильное народное представительство.
Но еще знаменательнее ответ Черниговского земства. Ответ, проектированный Петрункевичем, был очень почтителен по форме, но являлся прямым отказом Правительству в просимом содействии. Он содержал в себе критику действий Правительства и указывал: 1) на неправильную организацию средних и высших учебных заведений, «выбрасывающих ежегодно на улицу более 6000 юношей, озлобленных против общества и государства и служащих таким образом рассадником террористов»; 2) на отсутствие свободы слова и печати и 3) на отсутствие среди русского общества чувства законности.
«Хотя реформы внешнего царствования, крестьянская, судебная и земская», говорилось в адресе, «внесли в наше законодательство совершенно новые начала, но в жизни эти начала не получили надлежащего развития, став в прямое противоречие с некоторыми началами старого строя». «В частности, реформа земская могущественно способствовала подъему местного провинциального самосознания и содействовала самым благотворным образом воспитанию в нас общественных чувств. Но и она не могла развить в русском обществе чувства долга и уважения к закону. Наше законное право ходатайствовать обращено в мертвую букву, а такое отношение к нашим представлениям приучило и нас относиться спустя рукава к серьезным земским вопросам; это тем более горько, что лишенное печатного органа, земство не имеет и других условий для сношения и обмена идей даже по чисто хозяйственным вопросам. Таково положение русского общества. Не обладая чувством, заставляющим подчиняться закону, не имея гарантий в законе, не имея общественного мнения, обуздывающего всякие личные, несогласные с общественными интересами стремления, лишенное свободы критики возникающих среди его идей, – русское общество представляет разобщенную, инертную массу, способную поглощать все, но неспособную к борьбе».
В заключение адрес заявлял, что «Земство Черниговской губернии с невыразимым огорчением констатирует свое полное бессилие принять какие-либо практические меры в борьбе со злом и считает своим гражданским долгом довести об этом до сведения Правительства».
Тверской ответ представляет как бы продолжение Черниговского. Как и Черниговские гласные, Тверские земцы заявляли, что политические преступления суть только внешние признаки общих глубоких недугов, кроющихся в нашем общественном организме, тоже указывали не ненормальный строй учебных заведений, на те стеснения, которые встречает земство в деле народного образования, на неправильную постановку земского дела и проч. «Государь Император», говорил адрес, «даровал русскому обществу земское самоуправление, в котором нельзя не видеть залога мирного, законного развития народа. Но, к сожалению, дальнейшие административные распоряжения стеснили круг деятельности земства, лишив его всякого самостоятельного значения до того, что самые скромные ходатайства земства о его насущных нуждах не только остаются неудовлетворенными, но даже не удостаиваются ответа».
Повторив, таким образом, доводы Черниговского адреса, Тверское земство так резюмировало свое ходатайство: «Государь Император, в своих заботах о благе освобожденного от турецкого ига болгарского народа, признал необходимым даровать этому народу истинное самоуправление, неприкосновенность прав личности, независимость суда, свободу печати. Земство Тверской губернии смеет надеяться, что Русский народ, с такою полною готовностью, с такою беззаветною любовью к своему Царю-Освободителю, несший все тяжести войны, воспользуется теми же благами, которые одни могут дать ему возможность выйти, по слову Государеву, на путь постепенного, мирного и законного развития».
Нельзя не отметить, что эти адресы земств, инициаторами которых являлись, главным образом, члены «Земского Союза», были весьма сочувственно приняты земскими собраниями. Так, в предварительном публичном собрании всех гласных Черниговского земства, адрес, предложенный Петрункевичем, был принят почти единогласно (за исключением двух голосов) и передан его автору для формального предъявления очередному заседанию на следующий день.
Можно также думать, что заявления земств о созыве собора были бы гораздо более многочисленны, если бы Министерство Внутренних Дел своевременно не приняло мер к недопущению таких заявлений: предводителям дворянства, председательствующим в губернских земских собраниях, разослан был циркуляр, чтобы они не допускали даже чтения в собраниях подобных адресов. В некоторых местах были произведены аресты и высылки гласных, а в Чернигове в залу заседания даже были введены жандармы, которые силою ее очистили.
Несомненно также, что движение, проявившееся в земствах, нашло себе полное сочувствие и поддержку и в значительной части общества; в этом отношении повторилась старая, еще Лоренцем Штейном высказанная истина, что у общества никогда не исчезает надежда посредством земства достигнуть народного представительства[163]. В этом весьма легко убедиться, просматривая либеральные газеты и журналы того времени. Всего более сочувствие общества земскому движению выразилось в петиции, поданной 25 марта 1880 г. графу Лорис-Меликову, для представления Государю; петицию подписали «25 именитых московских граждан, в том числе несколько профессоров, адвокатов, пользовавшихся известностью писателей и других представителей образованного класса»[164]. В петиции этой, между прочим, указывалось, что один из существеннейших поводов к развитию революционной деятельности заключается в «вынужденном молчании земств».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Доклад этот следующего содержания:
М.Ф.
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВОПРОСУ О РАСХОДЕ НА НАРОДНЫЕ УЧИЛИЩА
На подлинном рукою Министра Финансов написано:
(Высочайшее соизволение последовало 12 февраля 1899 г. – С.-Петербург).
Ряд мероприятий, предпринятых по Высочайшим указаниям в Бозе почившего Государя Императора Александра III и Вашего Императорского Величества, несомненно упрочил наше финансовое положение. На ряду с этим, относительно наиболее обременительных для государственного казначейства расходов Военного и Морского ведомств можно иметь уверенность, что расходы эти не превысят в течение ближайших лет тех пределов, которые определены для них установленными с Высочайшего Вашего Величества соизволения нормальными бюджетами. Все это дает Министру Финансов возможность, – если сказанная уверенность не окажется тщетною, – озаботиться обращением средств, которыми может располагать государственное казначейство, на другие, наиболее назревшие, государственные потребности. В этом отношении, следуя Высочайшим указаниям Вашего Величества, Министр Финансов не может не поставить на первую очередь потребностей народного образования и, в частности, наиболее нуждающегося в распространении начального обучения.
Дело начального народного образования находится у нас на попечении собственно двух ведомств: Святейшего Синода и Министерства Народного Просвещения, так как состоящие в распоряжении других ведомств специальные низшие училища весьма немногочисленны и в смысле общего начального образования народа не имеют серьезного значения.