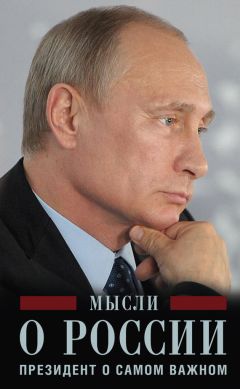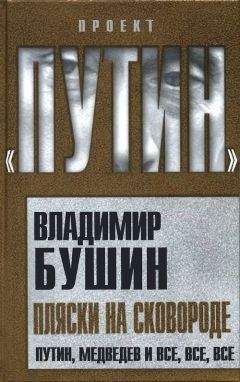Владимир Бушин - Путин против Сталина. Тест на патриотизм
Например: «На рассвете у Сталина были собраны (!) члены Политбюро плюс Тимошенко и Жуков». На самом деле ответственные лица были не «собраны», а являлись по вызову и, как уже сказано, решив свой вопрос или получив задание, уходили. И, как в упомянутом выше эпизоде, дело происходило не «поздно ночью», так и теперь люди были «собраны» не «на рассвете», а около шести часов утра, через два с половиной часа после восхода солнца в этот день.
Тут же: «Первый заместитель начальника Генштаба Ватутин отлучился на несколько минут из кабинета…» Ватутин прибыл в кабинет Сталина не «на рассвете», а в 14.00. К тому же тогда он не был заместителем начальника Генштаба, он стал им только в мае 1942 года. «Сталин позвонил по телефону заместителю начальника Генштаба Василевскому: «Немедленно передайте командующим фронтами, что мы выражаем крайнее недовольство отступлением войск»». Зачем Сталину звонить заместителю начальника Генштаба, когда у него в кабинете сам начальник да еще нарком обороны? К тому же тогда Василевский не был заместителем начальника Генштаба, он стал им только в августе. Ну, а «выражаем крайнее недовольство» в устах Сталина в тот день – это из рубрики «Нарочно не придумаешь».
И опять, но уже в расширительном смысле: «В этот первый день войны все (уже не «некоторые видные», а все! – В. Б.) были настроены довольно оптимистично, верили, что это лишь кратковременная авантюра с близким провалом». Представьте себе, верили все, кроме Чадаева и митрополита Сергия. А Молотов после вступления по радио не пустился ли в оптимистический пляс?
«Я видел мельком Сталина в коридоре. Его рябое лицо осунулось». Минутку!.. Никто из маршалов и генералов, ученых и конструкторов, писателей и артистов, работавших или только встречавшихся с ним, никогда не писали о «рябом лице» Сталина. А. А. Громыко писал даже вот что: «Где бы ни доводилось видеть Сталина, прежде всего обращало на себя внимание, что он – человек мысли… Его тяготило, если кто-то говорил многословно и невозможно было уловить мысль. В то же время Сталин мог терпимо, снисходительно относиться к людям, которые из-за своего уровня развития не могли четко сформулировать мысль. Когда он говорил, у него говорило даже лицо. Особенно выразительными были глаза. Он их иногда прищуривал. Это делало его взгляд еще острее… Мне случалось, и не раз, уже после смерти Сталина читать, что, дескать, у него виднелись следы оспы. Этого я не помню, хотя много раз с близкого расстояния смотрел на него. Что ж, если эти следы имелись, то, вероятно, настолько незначительные, что я, глядевший на это лицо, ничего подобного не замечал» (Памятное. М. 1988. Кн. 1, с. 199). Но как могли не заметить это Волкогонов, Радзинский и собратья их, из которых никто никогда вообще не видел Сталина, но очень хочется им сказать о нем хоть что-нибудь неприятное на их взгляд. Они заметили даже, что Сталин был такого роста, что, когда выходил на трибуну, там для него стояла скамеечка. Чадаев видел Сталина гораздо чаще, чем Громыко, и вдруг, словно новость, – «рябое лицо». Это, как и многочисленные несуразности в его воспоминаниях, заставляет думать, что к ним хорошо приложил лапу кто-то из только что помянутых.
Лапа Радзинского тут же выводит о выступлении Молотова по радио: «Сталин выставил (!) Молотова вперед: он подписывал пакт – пусть и расхлебывает». Будто Вячеслав Михайлович по собственному капризу взял да подписал. Это типичная демагогия бродячего либерала. Они приписывают другим такие поступки, какие в подобной ситуации предприняли бы сами.
И еще Чадаев о 22 июня: «Докладывает Тимошенко: «В первые часы вражеская авиация нанесла удары по аэродромам». Сталин: «Сколько же уничтожено самолетов?» – «По предварительным подсчетам, около 700». На самом деле в несколько раз больше». Какая легкость ума у этого Чадаева!.. Во-первых, даже в 14.00, когда Тимошенко последний раз был в этот день у Сталина, он не мог знать даже предварительно число потерь. А вот уж Чадаев-то, во-вторых, в начале 80-х годов, к которым относят его воспоминания, обязан был знать, коли взялся за мемуары, что самолетов мы потеряли не «в несколько раз больше, чем 700» (1400? 2100? 2800?), а примерно 1200 машин. В-третьих, обязан был сообщить, что в этот день наши летчики совершили около 6 тысяч боевых самолето-вылетов и уничтожили более 200 немецких машин. А восемь летчиков в этот день сбили вражеские самолеты тараном. Вот их святые имена: Л. Г. Бутелин, С. М. Гудимов, А. С. Данилов, И. И. Иванов, Д. В. Кокорев, А. И. Макляк, Е. М. Панфилов, П. С. Рябцев (М. Кожевников. Командование и штаб ВВС в годы ВОВ. М. 1977. С. 39).
Мог бы и еще кое-что вспомнить из первых дней войны. Так, рано утром 25 июня 236 бомбардировщиков и 224 истребителя авиации Северного фронта нанесли первый массированный удар по 19 аэродромам врага и уничтожили 41 самолет. Сами вернулись без потерь. В последующие пять дней налеты повторялись. В общей сложности атакам были подвергнуты 39 аэродромов и выведено из строя 130 самолетов противника (Там же, с. 46). Командующим ВВС фронта был генерал А. А. Новиков. Видимо, этот успех послужил основанием для его служебного роста: он стал главным маршалом авиации.
Такие горькие для себя факты первых дней войны подтверждают сами немцы: «Потери немецкой авиации не были такими незначительными, как думают некоторые. За первые 14 дней боев было потеряно самолетов даже больше, чем за любой из последующих таких же промежутков времени: с 22 июня по 5 июля 1941 года немецкие ВВС потеряли 807 самолетов всех типов, а с 6 по 19 июля – 477. Эти потери говорят о том, что, несмотря на достигнутую внезапность, русские сумели найти время и силы для оказания решительного отпора» (Мировая война 1939–1945. Перевод с немецкого. М. 1957. С. 472).
А вот здесь Чадаеву можно поверить: «Сталин говорил, что надо поручить эвакуировать население и предприятия на восток. Ничего не должно доставаться врагу». Действительно, уже 24 июня был создан Совет по эвакуации, что тоже свидетельствует о ясном понимании масштаба опасности.
Но вот что тут же опять писал тот самый блудный либерал Радзинский: «За этой фразой (набранной им курсивом – В. Б.) – гибель от рук отступающей армии городов, сел, заводов, – азиатская тактика выжженной земли» (с. 495). Я до сих пор не указывал страницы таких глоссолалий, но, т. к. кто-то может не поверить в подлинность таких полоумных заявлений, дальше буду указывать. Ведь человек совершенно офонарел от ненависти к Советской эпохе и к русскому народу, ее главному творцу. Ну, причем здесь Красная Армия? Она, обливаясь кровью, сражалась и отходила. И в каком уме надо быть, чтобы спасенные нами заводы объявлять погибшими? Азиатская тактика! Ему по душе цивилизованная европейская тактика, например, французская: как только немец грянул, так они тотчас объявили Париж и другие крупные города открытыми. Не троньте их! И через 43 дня капитулировали. Вот это политес… А когда немец кинулся на нас, Эдик с батюшкой и матушкой тотчас оказались в Ташкенте. Вот это европейская культура, перенесенная на азиатскую землю! К тому же, по воспоминаниям Л. Чуковской (т. 1, с. 246), там, в Ташкенте, батюшка Эдика, ведая распределением цековских писательских пайков, очень по-европейски обкрадывал Анну Ахматову, как позже сам Эдик литературно обокрал в Париже дочь генерала Деникина, о чем покойница жаловалась в нашей «Литературной газете».
Потомственный шельмец презрительно клеймит небывалую в истории по размаху, невиданную по героизму народную эпопею эвакуации 10 с лишним миллионов советских людей, 2 600 промышленных предприятий, в том числе 1500 крупных, 2,5 миллиона голов крупного рогатого скота, 800 тысяч лошадей, 200 тысяч голов свиней (ВОВ, энциклопедия. М.,1985. С.801–802). Он жалеет, что все это несметное богатство не досталось фашистам. Ему до сих пор ужасно досадно, что такие гиганты советской индустрии, как Харьковский тракторный завод, Гомсельмаш и Запорожсталь, для эвакуации которого, кстати, потребовалось 8 тысяч вагонов, в полной сохранности, на ходу не достались захватчикам и не начали бы работать на них.
Великая эпопея эвакуации 1941 и 1942 годов, к сожалению, странным образом не нашла никакого отражения ни в литературе, ни в кино, ни в живописи. Мы поставили памятники полководцам, погибшим героям, труженикам тыла, конструкторам самолетов и танков, они получили высокие правительственные награды… А тут? Ведь надо было учредить ордена, подобные ордену Отечественной войны, и медали, как «За оборону Москвы». Но, увы, время упущено. Где они теперь, эти ныне безымянные герои?.. Но по-моему есть другое решение. Надо в Москве поставить величественный памятник эвакуации, ее людям. И я думаю, что там обязательно должны быть четыре фигуры – Алексея Николаевича Косыгина, возглавлявшего Совет по эвакуации, Лазаря Моисеевича Кагановича, наркома путей сообщения, рядового безымянного рабочего, занимавшегося демонтажем и погрузкой заводского оборудования, и железнодорожника, доставлявшего бесценный груз в глубокий тыл. Это наша святая обязанность.