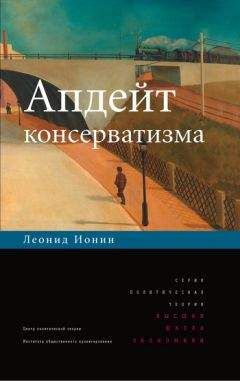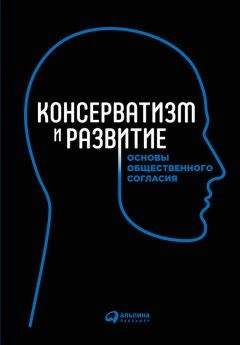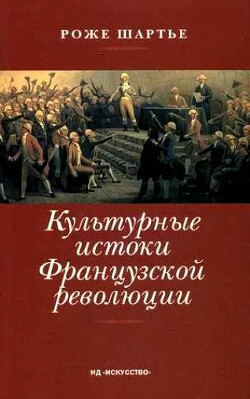Консерватизм в прошлом и настоящем - Рахшмир Павел Юхимович
О степени падения интереса к консерватизму, по крайней мере в Западной Европе, свидетельствует хотя бы тот факт, что в первые годы после окончания второй мировой войны в ряде партий, имевших явно консервативный характер, активно обсуждался вопрос об отказе от наименования себя таковыми. Например, лидер британских консерваторов Макмиллан в своих мемуарах вспоминал об обмене мнениями по этому поводу, который состоялся у него с главным партийным организатором Вултоном. Оба собеседника согласились с тем, что «слово «консервативный» кажется непривлекательным для массы современных избирателей, особенно тех, кто смотрит в новый и волнующий мир сквозь опыт горьких лет войны»{186}.
Консерватизму пришлось приложить огромные усилия, чтобы удержать свои позиции на политической арене. И он в очередной раз проявил большую жизнеспособность — в значительной мере благодаря своему многообразию. Традиционалистская и экстремистская разновидности были оттеснены на периферию политической жизни. На авансцену выступили умеренные консервативные силы, которым было легче вписаться в контекст послевоенной эпохи.
Метрополия консерватизма
Усилению позиций международного консерватизма в послевоенный период способствовали мощные импульсы, исходившие от самой могущественной страны капиталистического мира. Усилившиеся за годы войны США набрали небывалую силу, превратились в неоспоримого лидера империалистического лагеря. Американский империализм взял на себя миссию «мирового жандарма», т. е. миссию реакционную и консервативную. Речь шла не только о том, чтобы сохранить капиталистические порядки, но и о том, как «сдержать», «отбросить» социализм.
Реакционно-консервативный характер внешнеполитического курса США оказал мощное воздействие и на внутреннюю жизнь страны. Можно сказать, что после второй мировой войны центр международного консерватизма переместился в США. При этом в совместной борьбе против революционных сил во всем мире в процессе приспособления к меняющемуся миру у консерваторов разных стран и континентов усилились черты общности. Этому способствовали также более общие интеграционные тенденции, свойственные империалистической системе и нашедшие выражение в теории и практике «атлантической солидарности» под эгидой Соединенных Штатов. Различия национальных консервативных традиций, отмечает умеренно-консервативный британский политолог З. Лейтон-Генри, были сильно выражены в XIX в. и в первой половине XX столетия. После же второй мировой войны в связи с усилением влияния СССР, возрастанием мощи организованного рабочего движения и укрепления роли государства на Западе наблюдалась конвергенция консервативных целей и приоритетов: «современный консерватизм имеет общие корни и основной комплекс общих принципов»{187}. О «растущем взаимном оплодотворении европейского и американского консерватизма» пишет и американский консервативный историк Дж. Нэш.
В полной мере все эти тенденции проявились уже на следующем этапе эволюции консерватизма, начиная с рубежа 70—80-х годов, но старт такому развитию был дан в первые послевоенные годы. И именно американский консерватизм оказался тем «локомотивом», которому предстояло вытащить из тупика весь международный консервативный состав.
Выполнению американским консерватизмом этой роли благоприятствовали также идейно-политические сдвиги внутри господствующего класса. Монополистический капитал США за годы войны вышел из шокового состояния, вызванного кризисом 1929–1933 гг. Его готовность идти на уступки массам во имя сохранения основ своего господства ослабла. Это нашло выражение в заметном сдвиге вправо многих неолибералов из окружения президента Ф. Д. Рузвельта, процесс, который усилился после его смерти. Неолибералы по-прежнему выступали за широкое использование средств государственно-монополистического регулирования. Они готовы были идти на некоторые материальные уступки социальным низам. Однако в их рядах все сильнее проявлялось стремление обуздать народные массы, поставить их в жестко ограниченные рамки. И в этом они находили общий язык с консерваторами. В свою очередь в консервативных кругах росло понимание того, что многие из реформ Ф. Д. Рузвельта необратимы и что дальнейшую борьбу придется вести на почве свершившихся фактов. В результате сближения между «новым консерватизмом» и поправевшим неолиберализмом уже в первые послевоенные годы сложился так называемый консервативно-либеральный, а затем либерально-консервативный консенсус, т. е. компромиссный курс, отражавший устремления господствующего класса. Определяющими в этом курсе были первоначально консервативные, а позднее неолиберальные компоненты.
Не случайно Д. Эйзенхауэр, став в 1952 т. президентом, счел необходимым подчеркнуть, что его правительство будет «консервативным с точки зрения экономической политики» и «либеральным» в плане «достижения благосостояния» народа. А его оппонент от демократической партии Э. Стивенсон, которого считали воплощением американского либерализма, во время избирательной кампании говорил, что «странная алхимия нашего времени превратила демократов в истинно консервативную партию нашей страны»{188}.
«Новый консерватизм», определявший в послевоенные годы характер консервативно-либерального консенсуса, был, в сущности, американским вариантом реформистского консерватизма. От реформизма рузвельтовского неолиберального типа он отличался и количественно и качественно. Его социальная политика была гораздо скромнее, в ней снижался удельный вес налогов с монополий и ограничивались масштабы государственного вмешательства в социально-экономическую сферу. Последний момент как раз и связан с качественным различием между консервативным и неолиберальным реформизмом. По мнению неолибералов, смысл государственного вмешательства состоит прежде всего в том, чтобы отыскать какой-то компромисс между классовыми противниками путем социального маневрирования, а если потребуется, то и уступок. Государство в таком случае должно представать в роли надклассового арбитра-примирителя. На взгляд консервативных реформистов, роль государства иная: оно — не арбитр, а прежде всего полицейский, который твердо стоит на страже интересов капитала, навязывает его волю трудящимся, и если понадобится, то самыми жесткими, репрессивными мерами. Наглядным примером такого подхода к отношениям между трудом и капиталом явился известный закон Тафта — Хартли, существенно ограничивший право на забастовку.
То, что консервативно-либеральный консенсус был решительно обращен против прогрессивных сил, создавало весьма благоприятные условия для правых экстремистов. Не случайно его расцвет совпал с подъемом маккартизма. В этом явлении, получившем название по фамилии его инициатора сенатора-республиканца Дж. Маккарти, сплелись воедино праворадикальные и экстремистско-консервативные тенденции. Оно пользовалось хотя и не единодушной, но довольно широкой поддержкой консерваторов разного толка и части правых либералов.
Социально-экономическая политика консервативно-либерального консенсуса, подобно рузвельтовской, опиралась на методы государственно-монополистического регулирования, предложенные английским экономистом Кейнсом. Администрации Эйзенхауэра пришлось примириться и с дефицитом бюджета — этим важнейшим элементом кейнсианства, который обычно оспаривали консерваторы. В силу логики государственно-монополистического регулирования, с одной стороны, влияния рабочего движения — с другой, многое из рузвельтовского «нового курса» оказалось необратимым. Консенсус в принципе не был нарушен и после прихода к власти демократов при Дж. Ф. Кеннеди и Л. Б. Джонсоне. Можно сказать, что произошла лишь перемена мест слагаемых в формуле консенсуса: он стал либерально-консервативным.
Либерально-консервативный консенсус сохранялся и при президенте Р. Никсоне. Если у Эйзенхауэра не было четкого политического лица, то Никсон по праву считался убежденным консерватором, причем начинал он свою политическую карьеру на правом фланге консерватизма, в тесном сотрудничестве с Дж. Маккарти. Однако и Никсон без сколько-нибудь серьезных корректив воспринял от своих предшественников методику государственно-монополистического регулирования, т. е. остался в рамках буржуазного реформизма. Сам Никсон считал себя тогда консерватором дизраэлевского типа. В интервью после избрания в 1972 г. на второй срок он так излагал свою «политическую философию»: «Говоря о философии, я бы не сказал, что мы намереваемся быть более консервативными или более либеральными. Если бы я стал оценивать это с точки зрения великих дебатов в британской системе XIX в., то я сказал бы, что мои взгляды, мой подход ближе всего консерватизму в духе Дизраэли — сильная внешняя политика, сильная приверженность к основным ценностям и… реформа, которая будет работать, а не реформа, которая разрушает»{189}. Фактически согласие между консерваторами и либералами на базе буржуазного реформизма при всех поворотах и колебаниях сохранялось до рубежа 70—80-х годов.