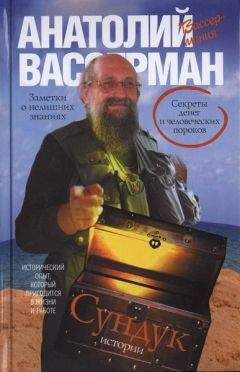Сергей Кара-Мурза - Россия и Запад: Парадигмы цивилизаций
Иногда приходится слышать, что эта антропологическая модель отрицает саму идею свободы, несет в себе обоснование тоталитаризма. Это очень поверхностные утверждения. Русские философы, исходившие из понятия соборности, соединяли идею свободы с внутренней потребностью человека в единении с другими людьми. Бердяев, разрабатывая экзистенциалистские представления о человеке, в то же время прямо заявлял: «Каждый отвечает за всех». Он считал, что только праведные дела сплачивают людей в обретении вечной свободы: «Спасение возможно лишь вместе с другими людьми». Свойственный экзистенциализму индивидуалистический взгляд на мир (изнутри своего «я») у Бердяева не противостоял пониманию существующих социальных задач. Понимая связи между людьми как дар божий, он говорил о роли добрых дел, любви, сострадании, взаимопомощи в сплочении людей и в то же время ставил вопрос об антибожественной сути зла, ненависти, жестокости, ведущих к одичанию людей и распаду общественных связей.
С.Н. Булгаков писал в том же ключе: «Человечество ищет такой общественной организации, при которой торжествовала бы солидарность и был бы нейтрализован эгоизм… Отдельный человеческий индивид есть не только самозамкнутый микрокосмос, но и часть целого, именно он входит в состав мистического человеческого организма…» [117].
Философская концепция всеединства, понимаемая как божественное предначертание, имела у русских религиозных философов и свою четкую социальную направленность — против усиливающейся разобщенности общества, роста классовых антагонизмов, других противоречий западной технологической цивилизации.
Обыденное сознание в России принимает как очевидную идею, что люди — «существа разумные, не в розни, а в совокупности пребывающие». М.М. Пришвин записал в дневнике 30 октября 1919 г.: «Был митинг, и некоторые наши рабочие прониклись мыслью, что нельзя быть посередине. Я сказал одному, что это легче — быть с теми или другими. «А как же, — сказал он, — быть ни с теми, ни с другими, как?» — «С самим собою». — «Так это вне общественности!» — ответил таким тоном, что о существовании вне общественности он не хочет ничего и слышать» [45].
Позиция этого рабочего нам понятна и привычна как нечто естественное. На самом деле это — продукт своеобразной культуры, в данном случае русской. Она непонятна и противна человеку, проникнутому индивидуалистической культурой (например, английской). Вебер приводит выдержки из канонических текстов кальвинистов. Бейли (1724) советует каждое утро, выходя из дому, представлять себе, что тебя ждет дикая чаща, полная опасностей. Шпангенберг настойчиво напоминает о словах пророка Иеремии (17, 5): «Проклят человек, который надеется на человека» (1779). Вебер пишет: «Для того чтобы полностью понять всю своеобразность человеконенавистничества этого мировоззрения, следует обратиться к толкованию Хорнбека о завете любви к врагам: «Мы тем сильнее отомстим, если, не свершив отмщения, предадим ближнего в руки мстителя-Бога… Чем сильнее будет месть обиженного, тем слабее будет месть Божья» (1666)» [93, с. 214].
Люди с высоким уровнем «индивидуалистического» развития стягиваются в нации другими типами отношений, например благодаря их рациональной деятельности по организации социальной помощи и благотворительности — даже если это делается не из любви, а из расчета и права. Хотя за полвека до этого по другому расчету и по другим законам отправляли бедняков в работные дома, благотворительность запрещалась.
А в старой России «Домострой» учил: «И нищих, и малоимущих, и бедных, и страдающих приглашай в дом свой и как можешь накорми, напои, согрей, милостыню дай». Модернизация лишь придала этому порядку слабый европейский оттенок: Александр I в указе 1809 г. повелел бродяг отправлять к месту жительства «безо всякого стеснения и огорчения» — самим бродягам. В северных деревнях дома даже имели специальные приспособления в виде желоба. Нищий стучал клюкой в стену, подставлял мешок, и по желобу ему сбрасывали еду. Устройство находилось на тыльной стороне дома, вдали от окон — «чтобы бедный не стыдился, а богатый не гордился» (см. [118, с. 267].
Вебер пишет о рациональности протестантских народов: «„Человечность" в отношении к „ближнему" как бы отмирает. И это находит свое выражение в ряде самых разнообразных явлений. Так, для того чтобы ощутить атмосферу этого вероучения, приведем в качестве иллюстрации прославленного — в известном отношении не без оснований — реформатского милосердия (charitas) следующий пример: торжественное шествие в церковь приютских детей Амстердама в их шутовском наряде, состоявшем из двух цветов — черного и красного или красного и зеленого (наряд этот сохранялся еще в XX в.), — в прошлом воспринималось, вероятно, как весьма назидательное зрелище, и в самом деле оно служило во славу Божью именно в той мере, в какой оно должно было оскорблять „человеческое" чувство, основанное на личном отношении к отдельному индивиду» [93, с. 217].
Редукционистская модель человека-атома, движение которого подчиняется «естественным законам», сохраняется и сегодня. В обзоре современных теорий социальной философии читаем: «Под огромным влиянием „отцов-основателей“ методологического индивидуализма, Хайека и Поппера, современные экономические и социальные теории исходят из квази-природной сущности действующих индивидов. Эти теории предписывают редукцию любого коллективного феномена к целенаправленным действиям индивидов. Аналогичным образом, редукция социальных макроявлений к характеристикам индивидов является квази-аксиоматичной для социологии поведения. И для теорий права в традициях веберовской объяснительной социологии фундаментальным предположением является деятельность индивидов („в конце концов, действия индивидов создают общество“). Даже те социальные теоретики, которые развивают структуралистский и системный подходы, чувствуют себя обязанными скорректировать их добавлением порции индивидуализма» [119, с. 90].
Важный вклад в западную модель человека внесла разработка понятия «естественный человек». Этому понятию была присуща биологизация. Такая биологизация человека возникла в ходе становления современного Запада. Пишут, что один старый философ сокрушался: тысячи лет нас мучает вопрос «что есть человек?», а для нынешнего ученого нет никакой загадки, и он отвечает: «человек был обезьяной».
Гоббс в своих трудах представляет «естественного» человека, очищенного от всяких культурных наслоений, и утверждает, что его природное, врожденное свойство — подавлять и экспроприировать другого человека: «Природа дала каждому право на все. Это значит, что в чисто естественном состоянии, или до того, как люди связали друг друга какими-либо договорами, каждому было позволено делать все, что ему угодно и против кого угодно, а также владеть и пользоваться всем, что он хотел и мог обрести» [113, с. 306]. Таким образом, естественное состояние для человека — война всех против всех (bellum omnium contra omnes). В условиях цивилизации, гражданского общества, эта война вводится в рамки закона и становится конкуренцией, которая действует как механизм естественного отбора.
На деле никакого отношения к естественным процессам идеологический миф конкуренции не имеет. К. Лоренц пишет: «Существует целый ряд доказанных случаев, когда конкуренция между себе подобными, т. е. внутривидовой отбор, вызывала очень неблагоприятную специализацию… Мы должны отдавать себе отчет в том, что только профессиональная конкуренция, а не естественная необходимость, заставляет нас работать в ритме, ведущем к инфаркту и нервному срыву. В этом видно, насколько глупа лихорадочная суета западной цивилизации» [120, с. 266].
Антропологическая модель, которой обосновывают конкуренцию в рыночной экономике «природой человека», развивалась множеством философов. В конце XIX в. Ф. Ницше писал в книге «По ту сторону добра и зла»: «Сама жизнь по существу своему есть присваивание, нанесение вреда, преодолевание чуждого и более слабого, угнетение, суровость, насильственное навязывание собственных форм, аннексия и по меньшей мере, по мягкой мере, эксплуатация» [121, с. 380].
Перенос биологических понятий в социальную сферу не в качестве метафор или аналогий, а в качестве рабочих концепций и моделей, — это способ легитимировать идеологические штампы через естественные науки, явный подлог. Антрополог М. Салинс пишет: «Гоббсово видение человека в естественном состоянии является исходным мифом западного капитализма. Современная социальная практика такова, что история Сотворения мира бледнеет при сравнении с этим мифом. Однако также очевидно, что в этом сравнении и, на деле, в сравнении с исходными мифами всех иных обществ миф Гоббса обладает совершенно необычной структурой, которая воздействует на наше представление о нас самих. Насколько я знаю, мы — единственное общество на Земле, которое считает, что возникло из дикости, ассоциирующейся с безжалостной природой. Все остальные общества верят, что произошли от богов… Судя по социальной практике, это вполне может рассматриваться как непредвзятое признание различий, которые существуют между нами и остальным человечеством» [122, с. 131].