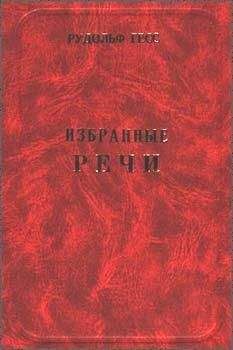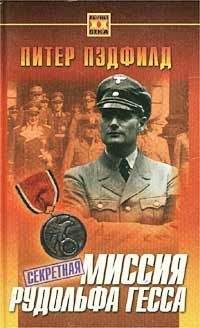Рудольф Гесс - Комендант Освенцима. Автобиографические записки Рудольфа Гесса
О, святая простота!
Такое представление могло сложиться лишь потому, что Глюкс никогда не работал в лагере. Поэтому и не мог он понять моих нужд. Такое непонимание со стороны начальства приводило меня почти в отчаяние.
Я отдавал работе все свои возможности, всю волю, я уходил в неё с головой — а это казалось игрой, выполнением собственных капризов. После визита РФСС в марте 1941[85] и получения новых больших заданий (но не помощи в самом необходимом) исчезла моя последняя надежда на лучших, более надёжных сотрудников. Я должен был довольствоваться теми, что были, продолжая с ними сражаться. Сделать своими союзниками я мог лишь нескольких действительно хороших, ответственных работников — но, к сожалению, не на самых ответственных постах. Их мне приходилось нагружать и даже перегружать работой, что, как мне позже стало ясно, оказалось никак не меньшим злом. Из-за этой полной безнадежности я в Освенциме стал совсем другим. Прежде в своем ближайшем окружении, особенно в своих товарищах, я видел только хорошее — до тех пор, пока не убеждался в обратном. Моя доверчивость часто играла со мной злые шутки. Только в Освенциме, где так называемые сотрудники предавали меня на каждом шагу и ежедневно повергали меня в разочарование, я изменился. Я стал недоверчивым, везде видел обман, везде видел лишь самое плохое. В каждом новшестве я тоже искал прежде всего самое плохое. Я оскорбил и оттолкнул от себя многих замечательных, честных людей. Доверия не стало. Товарищество, прежде бывшее для меня святым, стало казаться мне фарсом — ведь меня разочаровывали и старые друзья. Всякие товарищеские встречи стали вызывать у меня отвращение. Каждую из таких встреч я пропускал, был рад, имея уважительные причины для отсутствия. Конечно, такое поведение товарищи ставили мне в вину. Даже Глюкс часто обращал моё внимание на то, что в Освенциме не поддерживаются товарищеские отношения между комендантом и его помощниками. Я просто не был больше к ним способен. Слишком уж часто пришлось мне разочаровываться в людях. Всё больше я уходил в себя. Я стал одинок и неприступен, заметно очерствел. Моя семья, особенно жена, очень страдали из-за этого — я бывал невыносим. Я не видел ничего, кроме своей работы. Это вытеснило из меня всё человеческое. Моя жена пробовала вырвать меня из этой темницы. Она пробовала «открыть» меня, приглашая знакомых издалека, устраивала с той же целью дружеские встречи, хотя её такая общественная жизнь интересовала так же мало, как меня.
На время я вырывался из своего «индивидуализма». Но новые разочарования быстро возвращали меня за стеклянную стену. О моём поведении сожалели даже посторонние. Но ничего другого я уже не хотел — разочарования сделали меня в определённом смысле мизантропом. Часто случалось, внезапно я становился молчаливым, даже отстранённым, и предпочитал пройтись в одиночку, потому что внезапно у меня пропадало всякое желание кого-либо видеть. Усилием воли я брал себя в руки, пробовал с помощью алкоголя преодолеть приступы дурного настроения, и тогда опять становился разговорчивым, весёлым, даже развязным.
Вообще-то алкоголь приводил меня в радостное согласие со всем миром. В таком настроении я не обидел ни одного человека. В такой ситуации у меня выманили множество уступок, которые я не сделал бы в трезвом виде. Однако в одиночку я никогда не пил, да и не имел такого желания.
Я также никогда не бывал пьяным, а тем более не впадал в алкогольные эксцессы. Когда мне уже хватало, я просто тихо исчезал. Халатности по службе из-за растянувшегося наслаждения алкоголем не было в принципе. Я мог задержаться с возвращением домой, но на службу я приходил всегда вовремя и всегда полным сил. Такого же поведения я всегда требовал и от своих подчинённых. Потому что никакой грех начальства не деморализует подчинённых так, как приём любой дозы алкоголя в начале рабочего дня. Однако тут я не встречал понимания подчинённых. Лишь мое появление вынуждало их к трезвости — они прекращали пить, грязно издеваясь над «стариковскими капризами». Желая правильно выполнить задание, я должен был стать мотором, который неустанно стремится к работе, который должен гнать всех вперёд и вперёд на работу — совершенно всё равно, эсэсовца или заключённого. Я боролся не только с трудностями военного времени и попытками отлынивать от работы, но и — ежедневно, даже ежечасно — с равнодушием, небрежностью, разобщённостью своих сотрудников. Активное сопротивление было сломлено, против него можно было бороться. Но против тихого саботажа я был бессилен — пассивное сопротивление было неуловимо, хотя оно и присутствовало повсюду. Но недовольных я должен был подгонять, если ничего больше не оставалось, силой принуждения.
Если до войны концлагеря были самоцелью, то благодаря воле РФСС в ходе войны они стали средством достижения цели. В первую очередь они должны были служить самой войне, созданию вооружений. Следовало по возможности сделать каждого заключённого рабочим по созданию оружия. Каждый комендант должен был полностью подчинить лагерь достижению этой цели. Согласно воле РФСС, Освенцим следовало сделать мощным центром трудоиспользования заключённых на работах по производству оружия. Его заявления во время визита в марте 1941 были в этом смысле достаточно прозрачными. Лагерь на 100.000 заключённых, перестройка старого лагеря на 30.000 заключённых, необходимость 10.000 заключённых для производства буны — всё говорило об этом достаточно ясно[86]. Однако к этому времени появились величины, ставшие совершенно новыми в истории концлагерей.
Лагерь с 10 тысячами заключённых считался тогда необычно большим.
Категоричность, с которой РФСС потребовал предельно быстрой постройки лагеря, его заведомый отказ принимать во внимание уже имеющиеся, едва ли устранимые недостатки, тогда меня уже насторожили. То, как он отклонил доводы гауляйтера и начальника окружного управления, говорило о чём-то совершенно необычном. Я ко многому привык, общаясь с членами СС и с РФСС. Но та категоричность и та непреклонность, с которой РФСС потребовал скорейшего выполнения своего только что отданного приказа, была новой и для него. Даже Глюкс обратил на это внимание. И ответственным за выполнение этого приказа назначался я один. Из ничего создать — да ещё мгновенно, согласно тогдашним понятиям — нечто совершенно новое, с моими-то работниками, без едва ли достойной упоминания помощи сверху, при уже накопленном горьком опыте! А как обстояло дело с наличной рабочей силой? Что стало тем временем с шутцхафтлагерем? Руководство шутцхафтлагеря прилагало все усилия, чтобы сохранить традиции Айке в обращении с заключёнными. Сюда же были подброшены «улучшенные методы», вынесенные Фричем из Дахау, Паличем из Заксенхаузена и Майером из Бухенвальда. Мои постоянные напоминания о том, что взгляды Айке давно устарели благодаря изменению самих концлагерей, они игнорировали. Изгнать уроки Айке из их ограниченных мозгов было невозможно — наставления Айке подходили к ним гораздо лучше. А все мои приказы и распоряжения, которые противоречили их сознанию, просто «изымались из оборота». Ведь не я, а они руководили лагерем. Они воспитали функциональных заключённых — от лагерэльтесте до последнего блокшрайбера. Они воспитали лагерных блокфюреров и обучили их обращению с заключёнными. Впрочем, об этом я уже достаточно сказал и написал. Против вот такого пассивного сопротивления я был бессилен. Понятным и достоверным всё это может быть лишь для того, кто сам прослужил в шутцхафтлагере годы.
Я уже вскользь упомянул, какое влияние имеет лагерный актив[87] на своих солагерников. В концлагере оно особенно сильно. В необозримо громадных массах заключенных Освенцима-Биркенау это влияние было фактором решающего значения. Казалось бы, общая участь, общие страдания должны привести к нерушимому братству, к твёрдой как скала солидарности. Глубокое заблуждение! Нигде голый эгоизм не проявляется так резко и постоянно, как в заключении. И чем суровее там жизнь, тем сильнее эгоизм. Таков инстинкт самосохранения.
Даже натуры, в обычной жизни добрые и готовые прийти на помощь, за решёткой способны безжалостно тиранить своих товарищей по несчастью, если это может облегчить их собственную жизнь. Но насколько же более жестоки люди, эгоистичные изначально, холодные, порой с преступными наклонностями, в тех случаях, когда появляется возможность хотя бы малейших преимуществ. Заключённые, ещё не оглушённые жестокостью лагерной жизни, в целом страдают от психического воздействия гораздо больше, чем от самого жёсткого физического воздействия. Даже самый низкий произвол, самое плохое обращение со стороны охраны не действует на их психику так сильно, как поведение солагерников. Уже само по себе беспомощное наблюдение того, как подобные члены лагерного актива истязают солагерников, потрясает психику заключённых. Горе тому заключённому, который восстанет против этого, заступится за истязуемого! Террор внутреннего насилия слишком силен, чтобы на это решился хоть кто-то. А почему лагерный актив, функциональные заключённые обращаются так со своими товарищами по несчастью? Потому что они хотят казаться дельными ребятами, хотят представить себя в выгодном свете своим единомышленникам — охране и надзирателям. Потому что они тем самым могут получить льготы, облегчающие их собственное существование. Но это всегда достигается за счёт солагерников. А возможность вести себя так, действовать таким образом им даёт охранник, надзиратель, который либо равнодушно наблюдает за их поведением и не пресекает их деятельность из соображений собственного комфорта, либо даже одобряет их поступки из низких побуждений, а иногда из сатанинского злорадства даже поощряет заключённых к взаимной травле. Но и среди самого лагерного актива есть низкие твари, одержимые грубостью, подлостью и преступными наклонностями, которые истязают солагерников психически и физически, которые затравливают их порой до смерти, и которые делают это из чистого садизма. Даже моё нынешнее заключение, мой маленький кругозор предоставил и будет предоставлять достаточно поводов для того, чтобы увидеть описанное выше в меньшем масштабе и повторить всё сказанное выше. Нигде «Адам» не раскрывается настолько полно, как в заключении. Там с него спадает всё напускное, всё заимствованное, всё ему не свойственное. Отказаться от всяческих подражаний, прекратить игры в прятки его заставляет продолжительность заключения. Человек оказывается голым, таким, каков он есть: хорошим или плохим.