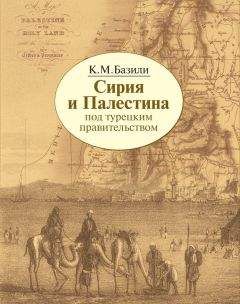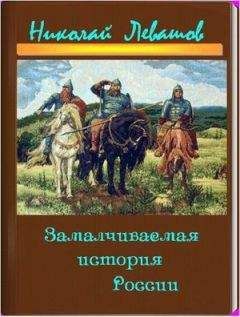Юрий Пивоваров - Русская политика в ее историческом и культурном отношениях
Доктринерство, идейная нетерпимость, инфантильный максимализм и т. п. были характерными чертами либеральной общественности. Вот, к примеру, в описании того же М.М. Ковалевского его поездка в Харьков и выступление с докладом о Булыгинской думе в Юридическом обществе тамошнего университета: «Мне было известно враждебное отношение широких общественных слоев к крайне несовершенному и по ограниченности своих функций, и по своему составу законосовещательному органу … Но я никак не ожидал, что в провинциальной среде отношение к Булыгинской конституции было столь отрицательно … Фактически, она, разумеется, давала мало. Но в ней были зародыши дальнейшего развития. Мне казалось, что уж этим одним Булыгинская дума могла привлечь к себе некоторые симпатии. Все это я хотел передать моей аудитории». — Однако прогрессивная харьковская интеллигенция, в передаче самого же Ковалевского, следующим образом реагировала на его идеи: «Докладчик — почтенный профессор, но умственно ограниченный и не понимает, что все дело во всеобщем голосовании и законодательной автономии Думы».
И весь сказ. Всемирноизвестный исследователь — «умственно ограниченный», а после веков самовластиявынь да положь сразу же полноценный парламентский режим. Так было повсюду, замечает Ковалевский. В ноябре 1905 года на земском съезде он был подвергнут массовому остракизму, когда заявил, что республика в России на тот момент столь же мало мыслима, как и монархия во Франции. Через месяц он был освистан в Париже учениками созданной им за четыре года до того Русской высшей школы общественных наук (а заведение этого, как говорят сейчас, было «элитным»; там преподавали Ю.С. Гамбаров, Е.В. де Роберти и им подобные). Молодые либералы потребовали, писал Максим Максимыч, «от меня отчета, как я смею не быть республиканцем в России … Я прекратил чтения, и школа закрыта не то временно, не то навсегда … Теперь уж никто не хочет учиться и все заняты только тем, чтобы внедрять в других … убеждения клеветою и физическим насилием». — Напомню, речь шла о представителях передовой общественности, людях либеральных взглядов…
Среди людей, в этом подобных М. Ковалевскому, нельзя не назвать Александра Изгоева, члена ЦК кадетской партии, «веховца», профессора, публициста, крупнейшего эксперта в области политических отношений и общинного землевладения.
После окончания первой революции он писал: «На всех проявлениях нашей общественной и духовной жизни лежит неизгладимая печать самодержавия. Мы говорим не о прямом влиянии самодержавия, строившего формы жизни по своему произволу, уничтожившего общественные организации и плоды умственного творчества. Самодержавие имело еще косвенное, отраженное влияние, и последнее было во многих отношениях даже сильнее первого. Гнет самодержавия вызывал протест, — и у всех людей с пробуждающейся совестью, пробуждающимся сознанием этот протест делался главным содержанием жизни, все поглощал, все окрашивал собою. Общественная и духовная жизнь имели ценность в представлении лучшей и большей части русского общества лишь в той мере, в какой они выражали протест против самодержавия, могли хотя бы и отдаленно служить орудием борьбы против него».
Внешне, формально — это достаточно традиционная точка зрения на самодержавие. Точка зрения «либерала — общественника». На самом же деле этот привычный, оппозиционно-прогрессистский тон скрывает мысль в высшей степени неординарную. Но послушаем ее продолжение: «Творческая способность человека создавать образы сочетанием красок или слов, живопись и поэзия, ценились у нас, лишь поскольку они служили средством возбуждать людей к борьбе с самодержанием. Наука, ценимая за границей, как развитие умственной силы человечества и как орудие господства человека над природой, у нас потеряла свое огромное методологическое и прикладное значение, а зато приобрела огромную ценность своими философскими выводами, стремящимися освободить человечество от той тьмы, которой закутывали ум самодержавие и поддерживающие его силы. За границей эта освободительная, рационализирующая сила науки была добавочным продуктом, сопровождающим развитие научных методов … У нас, наоборот, воинствующая сторона научных гипотез, являющихся хорошим орудием борьбы с идеологией самодержавия, выдвинута была на первый план, а развитие методов, изучение подробностей, без знания которых общие идеи теряют свою ценность, были отброшены в отдаленный угол и передовой частью общества клеймились даже, как педантизм и реакционная «наука для науки».
Далее Изгоев утверждает, что политические, социальные, эстетические и пр. явления русской жизни «представляются совершенно непонятными, ничтожными по содержанию, если отвлечься от породившего их самодержавного гнета, нависшего над всей страной».
Иными словами, Александр Соломонович приходит к такому выводу. Русский космос — властецентричен. В том самом смысле, в каком европейский с (примерно) XVI столетия — антропоцентричен. Там, у них — «человек мера всех вещей», у нас — власть. На Западе основа социальных наук — антропология, в России — кратология. Они: (слегка перефразируя) развитие каждого есть условие развития всех; мы: существование власти есть условие существования всех. И т. д.
Только под таким углом зрения можно понять и саму власть, и противостоявшее ей освободительное движение, и русскую публичную политику, и русскую литературу и др. Всем и всему власть придавала содержание, смысл, целеполагание. С горькой иронией Изгоев пишет. «На самом крупном из наших общественных учреждений, на земстве, такое положение отразилось особенно ярко. Пожалуй, можно было бы сказать, что роль земства в нашей стране была в гораздо большей степени революционной, чем культурной. Революционные публицисты вполне основательно считают, что работа земства была культурной лишь в той мере, в какой она была революционной: «дорога была тайная работа земства, а не открытая, продотчетная». Публицист-социалист-революционер, у которого мы заимствовали эту фразу … не может только уловить, что и «открытая, подотчетная работа» земства тоже была революционной в атмосфере полицейского государства. А В.К. фон Плеве это отлично понимал. Он знал, что союзы земских учреждений для взаимного страхования, или для закупки сельскохозяйственных орудий, или для урегулирования продовольственных запасов — явления, безусловно, революционные … В.К. Плеве отлично понимал, что и съезд гинекологов или хирургов чреват большими опасностями для самодержавия, так как и гинекологи могли вынести политические резолюции и заявить, что при существующих государственных порядках они не в состоянии выполнять как следует свои обязанности. Как известно, такие резолюции именно и были вынесены, и русское общество, чересчур ощутительно изведавшее на своих плечах причины их породившие, вовсе не склонно было встречать заявления гинекологов с той дешевой иронией, которой пробавлялись продажные журналисты».
В этих словах Изгоева заключен шифр к разгадке «тайны» русской истории, русской революции, русской публичной политики. Поскольку власть определяла все и вся, постольку любая деятельность, пытавшаяся быть самостоятельной, неизбежно приобретала антивластный характер. Общественная организация, институт, движение имели raison d'etre только потому, что противостояли власти. При этом, чем радикальнее они были против власти, тем «субстанциальнее» они становились.
Повторю. Вот что принципиально: сами по себе, вне власти и помимо власти, общественные институты и революционные организации содержания, субстанции не имели. Гинекологи и статистики сбивались в общества с тем, чтобы бороться с самодержавием; собственные, профессиональные проблемы находились на тридцать третьем месте. С первого по тридцать второе занимало противоборство с властью. Да, это было так. Однако в этом не вся правда о том, что было в России и с Россией в начале века.
К тому времени Русская Система уже трещала по швам. Власть, как мы знаем, переставала быть Моносубъектом, Лишний человек — «лишним», Популяция — депопуляционизировалась. И чем интенсивнее шел этот процесс, тем больше то, что не было Властью и привластным обретало свой собственный смысл. Русская история еще раз доказывала и доказала, что она не тротуар Невского проспекта. Движение шло в разных направлениях и с разной скоростью. Но по этой линии, линии разрушения Русской Системы результат был таков: «общественное» (не-властное) преобразовывалось постепенно в начатки «civil society». И — на время, только на какой-то период! — оказывалось несильным, нестойким, неэффективным. Это «общественное» теряло негативную энергию сопротивления, придаваемую ему Властью. И ожидало, когда можно будет подзарядиться положительной энергией созидания. Подзарядиться от того самого нарождающегося «civil society». Вопрос был в том: сколько на это требовалось времени? Который час пробил в русской истории?..