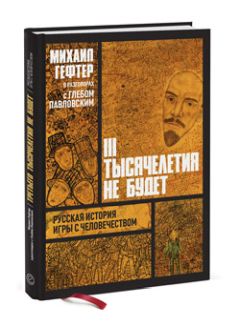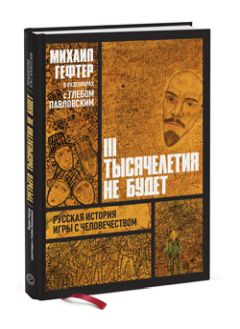Михаил Гефтер - 1917. Неостановленная революция. Сто лет в ста фрагментах. Разговоры с Глебом Павловским
Историческое событие развертывается, пока для него есть источники или что-то его не остановит. Революцию могли остановить много раз – и в двадцатые годы, и в тридцатые, и после Победы 1945-го… Кажется, Лаврентий Берия в Кремле 1953 года был последним, кто задумывал контр-Октябрь. Ельцин с людьми 1990-х ушел от своей термидорианской миссии – в эрзацы переименований, в самозванство звучно-ничтожных статусов. Государство ими не было понято как неотложная, немедленная задача. Оттого мы не живем в Российской Федерации. Мы бродим в лабиринте, в арсенале целей, средств и слов Революции – а та снова пытается восстать мировой. Но как ей стать мировой теперь, после смерти утопии, как не путем глобальной уничтожающей судороги?
Чрево еще плодовито.
Глеб Павловский Октябрь 2016«Я марсианин». Революционное метапоколение
Михаил Гефтер: Простая ли тема – свое поколение? На самом деле затруднительная. Человеку трудно быть откровенным до конца, и грешно от него это требовать. Но затруднительно и по другим причинам. Станиславский где-то говорит: я родился при крепостном праве, когда дома еще освещались восковыми свечами. Если меня спросят: «А вы?» Если так начать книгу, что бы я сказал? Что родился в провинциальном городе Симферополе, где воду развозили в бочках и продавали? Что во двор приносили горячие бублики с маком? Как-то невыразительно это все, правда? Я из мира, которого уже нет. Сам я по прихоти судьбы есть, а мира, который мой, где я вырос, где потерял лучших друзей и множество близких, – этого мира уже нет.
Когда я пытаюсь вернуться к точке Мира, которого уже нет и откуда я, – что там, в опустевшем, осталось? Все вычеты произвели: кто там, не финал ли феллиниевых «Восьми с половиной»? Уже не живые – тени, призраки, а посреди них мальчик играет на флейте. Заменим его мальчиком Мишей, играющим на пионерском горне. В пионерском отряде решили сделать костер из молитвенных книг, и он просит у бабушки отдать ее еврейскую молитвенную книгу… И моя мудрая бабушка, любя внука, отдает! Она сняла только старинный переплет, оставила себе на память. Ужаснуться, пожалеть этого мальчика с пионерским горном? Сказать следующим: глядите, какими они были, – на ваше счастье, их нет и уже не будет?!
Тут всплывает расхожее слово: поколение.
Кем определяется поколение? Вероятно, детьми. Когда в XIX веке Иван Тургенев написал «Отцы и дети», Федор Михайлович Достоевский сказал: надо бы назвать «Дети и отцы». Верно – отсчет от детей, а отцы оказываются предшественниками. Это дети их делают прошлым поколением. Всплывает вопрос отсчета поколений: конфликт детей и отцов, он разве бывает в каждом поколении? Нет. Тургенев в 1850-1860-е годы: Базаров, конфликт, схватка! А в 1880-е годы яростные, непререкаемо идущие к цели народовольцы – дети благополучных родителей. Конфликта детей и отцов в их семьях почти нет.
И сколько вообще было этих громких конфликтов? Один в 1950-1960-х XIX века. Следующий – после Октября, в 1917–1919 годы.
Состоятельные дети шли в революцию, – и опять разрывы, переворачивания… А далее, пожалуй, только в 1950-1960-е годы нашего века, когда в послесталинское время снова вспыхнул конфликт детей с отцами. А сейчас есть он, конфликт поколений? Его нет! Но тогда и поколения нет?
А что было между? 1920-е, к началу 1930-х, – конфликт детей и отцов, 1950-1960-е – конфликт детей и отцов. Между этими двумя конфликтами нечто большее, чем поколение, – метапоколение. Не на одно лицо, не одной судьбы, но с множеством роднящих могил и переизбытком смертей, сближающих людей. Метапоколению, расположенному между двух конфликтов детей и отцов XX века, трудно дать определение. Как назвать это метапоколение – постоктябрьским по хронологии? Постреволюционным по образу действия? Социалистическим – по той цели, надежде, иллюзии, которая двигала активным меньшинством, которое и образует лицо поколения?
Что вынести за общую скобку? Не буду оригинален: это прежде всего отношение к истории, странное, теперь трудно передаваемое. Непередаваемое ощущение, что не просто соучаствуешь в истории – ее творишь. Ты в ней постоянно присутствуешь. Утром встал – и ты в истории; спать ложишься – в истории. Все, что тебя окружает, эфир жизни, – все это история. Ты в ней, она – в тебе. Это сильное чувство? Да! Страшное? Должен тебе сказать – да. Это растворение в истории, когда все, что вне ее – обычное человеческое существование, – не исключается, но его почти не замечаешь. Оно не в цене, а в цене то, что в истории и что зовется историей.
Такое сознание можно назвать романтизмом, фанатизмом – как угодно! Гримасой этого ощущения остались советские словесные штампы. Каждый пленум был наперед «исторический»; каждый съезд уже заведомо исторический, каждая встреча и речь – исторические… А уж каждое слово ОДНОГО – не подлежит сомнению, что оно историческое! И Сталин так выговаривал слова, чтобы мы их действительно историческими ощущали.
Состояние, когда все измеряется историей, – двигатель людей страшно сильный, но и яма провальная. Пошлое выражение «война все спишет» вытекало из ощущения, что история списывает все. Жертвы ей принадлежат по праву, история и жертвы – едино суть. Жаловаться или быть готовым стать жертвой?
К этому прибавь плотность времени. История очень плотна, хотя, конечно, это иллюзорное переживание. Уплотнение времени обусловлено растворением в истории, которая, в свою очередь, немыслима без жертв. Оно зовет тебя, оно указует и врагов. И все где-то сводится к понятию, идущему от времен раннего катакомбного христианства: новая тварь, Судный день. А у нас – революция и новый человек! Но с человеком старым как быть? Если кто-то из новых «устаревает», как быть с такими? Вычеркнуть их – и тебе нужно соглашаться с вычеркиванием. Раз в основе всего новые люди, они в фокусе истории, появляются новые старые – отсталые, устаревшие, подлежащие вычеркиванию. Они первые кандидаты в жертвы, и чему удивляться?
Недавно, в третьем номере журнала «Источник» за этот год (1994), напечатана речь Сталина на военном совете после уничтожения Тухачевского и других полководцев. Страшная речь, но очень важная. У Сталина там примечательнейшая по откровенности и точности фраза: наша сила – люди без имени! Те новые люди, что пришли во власть после Октября, были с громкими именами, но теперь пришла пора других новых – тех, кто без имени. Их множество, и они наша сила. «Люди без имени» – они тоже из моего метапоколения.
Наше метапоколение совестливым было или бессовестным? Замечательный человек первой эмиграции Георгий Федотов, говоря про имморализм Ленина, имел в виду, конечно, и нас – тех, кто от Ленина. Дословно имморализм означает безнравственность, но не корыстную безнравственность по расчету (хотя и была такая). Не одну безнравственность из карьеристских соображений. Имморализм – это низкий, на ноль сведенный иммунитет к безнравственности.
Селекция по убыванию человечности не слишком замечалась моим поколением. А почему? Раз все есть история, а та всегда в действии, вечно в спешке, то что может дать истории оценку вне ее самой? Где поместить нравственную оценку вне самого действия?! Десять заповедей? Не надо обманываться: когда история правит бал, когда действие вербует людей, эти люди рвутся вперед, в бой! Готовые соглашаться с тем, что убывают, исчезают, уничтожаются многие из них. Если есть на это совестливое разрешение, то быть ли ему вне действия, вне истории? Все, что вне, не сработает. А все, что внутри, работает на потребу истории.
Но это мы, отождествив себя с историей, сотворили многое благодаря этому. Это мы в 1941-1942-м смертями друзей остановили Гитлера. Мое поколение не может считать себя не в ответе. Нам пристало честно рассказать о нашем имморализме, а тем, кто пришел после, – выслушать нас и подумать о себе. Такая встреча, такой разговор были бы полезны.
Слабость публицистических сочинений о том времени – во всех воспоминаниях время течет ровно, изо дня в день. Между тем процесс шел асинхронно. Неверно, что Сталин владел нами с момента появления у власти. К тому шло – и пришло, но не до конца. И шло-то не в едином строю. Сокровенный момент, связанный с именем Сталина, – вытаптывание различий. Приведение всех к тождеству реакций, оценок, эмоций. Однако не только в том дело, что Сталин не мог уловить все души сразу, а в том, что, улавливая, ему самому приходилось учиться преодолевать сопротивление наших душ. Существенна асинхронность процесса.
В начале 1930-х – страшная человеческая перетасовка, именуемая сплошной коллективизацией… Но к тому же порогу человеческий талант, поэтический гений в литературе достигают высот, освоив свершившееся в людских судьбах после революции. Что же, они заодно – коллективизация и Эйзенштейн? Сталин и воронежский Мандельштам? Ягода и Андрей Платонов? Странный расцвет советского кино того времени сопоставим со взрывом итальянского неореализма, а литература – с пришествием латиноамериканского романа.