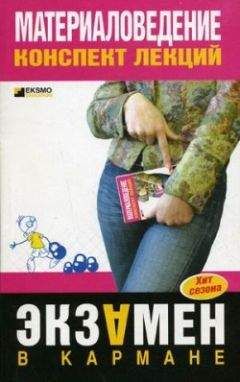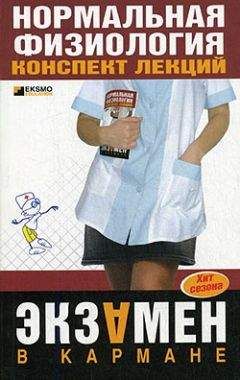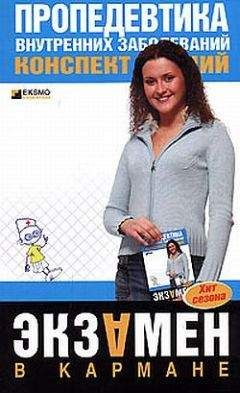Виктор Мизиано - Пять лекций о кураторстве
Впрочем, надо признать, что «эстетика взаимодействия» (по крайней мере, в формулировках Буррио) вызвала острую критику, которая продолжается до сих пор – в частности, в текстах историка современного искусства Клэр Бишоп[36] Основной упрек Буррио сводился к тому, что намеченная им перспектива выстраивания на территории системы искусства «микроутопических сообществ» предполагала паразитическое к ней отношение. Художники и кураторы цинично использовали ресурсы системы для неких иных, не в полной мере ей соответствующих целей, но при этом – а это и есть основной предмет критики «эстетики взаимодействия» – старались не вступить с ней в конфликт, чтобы не лишиться ресурсов, которыми она располагает. Большинство художественных аналитиков и кураторов – Кристиан Краванья, Грант Кестер, Мэри Джейн Джейкоб, Стивен Райт, Мария Линд и другие – настаивали на необходимости разных форм критического взаимодействия с системой и поддерживали многочисленные альтернативные поэтики – от так называемой коммуникационной эстетики до искусства сообщества. Для нас важно не столько углубиться в художественную полемику недавнего прошлого, сколько обратить внимание на тот факт, что художники и кураторы осознают в этот период свою автономию от инфраструктуры и – что самое главное – сводят свою практику к выстраиванию параллельной параинституциональной системы прямых человеческих связей. Демистификация институций, понимание лингвистической природы производительных сил современного искусства привело к осознанию сетевой природы художественного сообщества и динамики его становления.
Самое любопытное, что уже в следующем десятилетии (в 2000-х годах) наработанная художниками и кураторами практика и теория институционализации живых человеческих связей нашла продолжение в институциях нового типа. Так, в Париже в Palais de Tokyo открылся Центр современного искусства, одним из кураторов которого был как раз Николя Буррио. Авторитетными стали в этот период и несколько других центров типа «Балтика» в Гейтсхеде, Мюнхенского кунст ферайна (в период, когда его возглавляла Мария Линд), «Rooseum» в Мальмё в Швеции. Чуть позже лидерами так называемого нового институционализма стали музеи МАГБА в Барселоне, Ван Аббе в Эйндховене, MHKA в Антверпене, Moderna Galerija в Любляне и открывшийся в конце десятилетия центр «Ноттингем Модерн».
Все эти новые (или же старые, но изменившие свою политику) центры и музеи были единодушны в своем стремлении бросить вызов глобальной системе искусства и предложить альтернативную модель институциональной политики. Они не просто открыли двери художникам «институциональной критики», как это делали институции уже в 1970-х годах, но постарались включить эту практику в свою концепцию. Эти институции мыслили себя рефлективными, готовыми построить программную политику на собственной деконструкции и критическом анализе. Следуя поэтикам радикальных художников, они стали проводить длительные, разворачивающиеся на значительном промежутке времени проекты. Не желая становиться местом фабричного производства искусства и традиционных способов его показа, новый институционализм мыслил себя скорее лабораторией или исследовательским центром. Но было бы ошибочным заподозрить новые институции в стремлении к интеллектуальному герметизму и самодостаточности. Напротив, выстроить диалог с публикой, выработать его новые модальности – такова была их основная этическая установка. Противостоя негативным последствиям глобализационных процессов, они отнюдь не замыкаются в локальности и местечковости, а пытаются предложить альтернативную модель глобализации, основанную на иных установках и ценностях. Так, лидирующие представители «нового институционализма» выстроили недавно альянс, названный ими «Internationale», в рамках которого создают совместную стратегию и проекты, обмениваются произведениями и результатами исследовательской работы.
Итоги работы «нового институционализма» по созданию публичных пространств подвел Алекс Фаркухарсон.[37] Будучи первоначально историком кураторства, а затем став директором-основателем «Ноттингем Модерн», он вывел некие основные принципы или, как он их назвал, максимы, которым следовали представители этого направления в своем стремлении предложить демократическую и открытую политику. Одна из них звучит так: «Работайте на разных уровнях, чтобы создавать пространства для участия аудитории». Здесь имеется в виду, что институция теперь уже не мыслит себя носителем высшей экспертной компетенции, ведь в эпоху торжества живого знания экспертность становится достоянием множеств. А потому задача художественной политики – не столько просвещать непосвященных, сколько выстраивать диалог, в ходе которого вырабатывается новое знание. При этом данное знание должно разделяться всеми, кто находится в оппозиции к культурной индустрии, которая, все больше опираясь на принципы маркетологии и следуя логике рынка, склонна разделять общество на фокус-группы и разные страты потребителей. А потому еще одна максима «нового институционализма» – это «гостеприимство», то есть открытость всем и игнорирование навязанных властью социальных и классовых демаркаций между людьми. И сама эта категория, и ее гуманистический смысл восходят к идеям Жака Деррида, который в своей знаменитой книге «О гостеприимстве» писал: «Скажем “да” тому, кто или что приходит, прежде всякого определения, всякого предвосхищения, всякой идентификации, неважно, иностранец ли это, иммигрант, незваный гость или неожиданный посетитель, гражданин другой страны – человек, животное или небесное создание, живой он или мертвый, мужчина или женщина». Наряду с этим «новый институционализм» стремится к щедрости и междисциплинарности. Новые институции реагируют на меняющийся характер знания, освобождающегося от узкой профессионализации. Музей или художественный центр становятся местом встречи искусства, науки, теоретической мысли и общественной практики, а полученное в результате этого диалога знание открыто для всех, кто пришел в институцию, зашел на ее сайт, получил ее публикации и т. д. Так «новый институционализм» пытается противостоять приватизации публичного пространства и общественного знания. Наконец, еще одну максиму Фаркухарсон формулирует так: «Произведение – это то, что вы видите перед собой». Имеется в виду, что «новый институционализм» ставит задачу вдумчивого исследования контекста, в котором он находится. Это особенно важно сегодня, так как, с одной стороны, глобализация навязывает универсализированные стандарты, которые стирают привязанность к месту, лишают осознания специфичности его прошлого и настоящего. С другой стороны, культурная и туристическая индустрия распространяют развлекательные, лишенные проблемности версии «гения места». Поэтому целью новых институций становится возвращение публике «места» как источника комплексных смыслов, взывающих к опыту настоящего.
Вокруг «нового институционализма» до сих пор не утихают споры. Суть их сводится к следующему: в какой мере, существуя внутри неолиберального порядка и будучи частью глобальной системы искусства, новые институции могут осуществить свою критическую, открытую, демократическую практику? Лидеры и сторонники новых институций ссылаются на идеи Антонио Грамши о культурной гегемонии, которые актуализированы в последние годы трудами известных теоретиков Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф. Согласно их теории, общественные преобразования всегда рождаются внутри сложившегося порядка вещей, поэтому они неизбежно используют в своем становлении ресурсы, которые им предоставляет наличный контекст, для того, чтобы привить новые ценности, приведя их – воспользуемся здесь термином Грамши – к культурной гегемонии. При этом систему общественных институтов Грамши сравнивал с окопами на полях сражений Первой мировой войны, которые по мере передвижения линии фронта использовались то одной, то другой враждующей стороной. Институции, таким образом, являются лишь некой пустой формой, которую можно наполнить любым содержанием. Именно эту стратегию «новый институционализм» осуществляет на территории системы искусства, меняя содержание и ценности последней и пытаясь прийти к культурной гегемонии.
Однако веские аргументы имеются и у скептиков, обращающих внимание на то, что концепция «критических» институций наивно игнорирует логику функционирования общественных механизмов, у которых форма является далеко не пустым вместилищем какого угодно содержания, а несет в себе идеологические смыслы. Поэтому «новый институционализм», каковы бы ни были его намерения, в конечном счете либо должен стать организационно «изоморфным» окружающему социальному миру, либо оказывается перед необходимостью разоблачить свою недееспособность и прекратить существование. И действительно, в современном мире лидерам новых институций, для того чтобы в своей борьбе за гегемонию удерживать контроль за системой искусства, приходится считаться с реальными хозяевами институциональной инфраструктуры – политиками и спонсорами, а также следовать нынешним правилам выстраивания личной карьеры, то есть заниматься промоушеном самих себя и т. д. Говоря иначе, логика «управления» предполагает, что некие доминирующие обстоятельства неизбежно укореняются в нашем сознании, в чем мы подчас даже не отдаем себе отчета. Наконец, есть еще один важный момент: любые новые идеи, даже критические или сверхкритические, крайне быстро апроприируются культурной индустрией, становятся интеллектуальной модой, атрибутами карьеры, а потому теряют свой подрывной смысл.