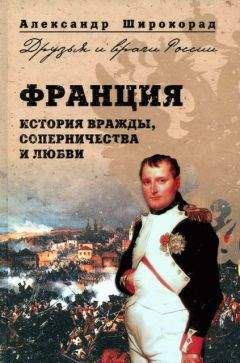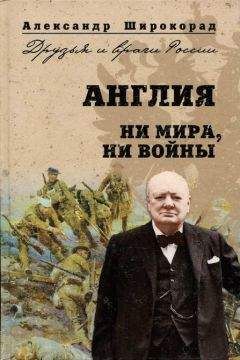Александр Эткинд - Толкование путешествий
Стали послабляться религиозные гонения. Старообрядчество получало небольшие тайные льготы, ждало больших. […J Я вас прошу обратить внимание на этот пункт. Вы, вероятно […] не думаете, что массы рода человеческого […] способны принять научные убеждения, требующие огромной подготовки и совершенного разрыва с ненаучной традицией […] Религиозная свобода и нераздельное с ней развитие разнородных учений составляют единственный путь к освобождению масс […]; таким образом, в Северных Штатах, где всего больше развито сектаторство, массы всего больше принимают участие в деле общественном[154].
Для новых поколений, далеких свидетелей Гражданской войны в Америке, ее опыт должен был повториться в России. Целью и смыслом ее было бы освобождение русских рабов; враги определялись не географически, как в Америке, а социально. Победоносная война Севера против Юга должна быть воспроизведена в России как война низших классов против высших. По ту сторону океана действовали сходные силы транскультурной проекции, менявшие неясные черты далекого мира в соответствии с понятными и насущными проблемами собственного. Когда в 1866 году Каракозов стрелял в Александра II, Конгресс направил в Петербург такое послание:
Конгресс Соединенных Штатов Америки с глубоким огорчением узнал о покушении на жизнь Императора со стороны врага освобождения. Конгресс […] поздравляет двадцать миллионов крепостных крестьян. Избавление от опасности их суверена, уму и сердцу которого они обязаны своей свободой, было определено Провидением[155].
Короче говоря, покушение на императора Александра уподоблялось покушению на президента Линкольна. По аналогии, конгрессмены увидели мотив покушения в сопротивлении реформам. Но если в Линкольна стреляли те, кто считал, что освобождение зашло слишком далеко, то в Александра стреляли те, кто считал, что освобождение зашло недостаточно далеко. Так история, увиденная из-за океана, оказывалась зеркальным отражением собственной истории; как в зеркале, правое и левое аккуратно менялись местами.
Герцен писал знаменитому историку Жюлю Мишле в 1868 году: «Русская империя — это нечто чудовищное, нелепое, она должна превратиться в федерацию по образцу американской. Вот наше желание, наша надежда»[156]. Герцен перечитывал Токвиля начиная с 1837 года и очень хорошо знал, насколько Российская империя отличается от Североамериканского союза[157]. Но надежда политика легко превращается в знание историка; получившийся гибрид искажает историю и дезориентирует политику. Так, выдавая прошлое за будущее и желаемое за действительное, развивалась известная в русской историографии «федералистская теория», согласно которой Российское государство, подобно американскому, когда-то в прекрасном прошлом уже строилось на свободном договоре между своими землями. Моделируя русское прошлое по образцу американского настоящего, эти идеи радикальных историков Николая Костомарова и Афанасия Щапова подчинялись логике желания, а не фактов — логике революции.
Мысли русских революционеров недолго сосредотачивались на экзотических реальностях Нового Света. К концу 1870-х Америка не только перестала быть мечтой и образцом для европейских социалистов, но превратилась в их злейшего врага. За Гражданской войной последовал экономический бум, который превратил Америку в лидера мирового капитализма. Россия очевидно отставала, что с грустью констатировали трезвые головы. Маркс в 1879 году отвечал на не дошедшие до нас русские письма, в которых патриотическая мечта все еще выражалась американскими аналогиями:
Я считаю невозможным усматривать действительную аналогию между Соединенными Штатами и Россией. В Соединенных Штатах государственные расходы уменьшаются с каждым днем и государственный долг ежегодно и быстро сокращается. В России же неизбежность государственного банкротства становится все более и более очевидной. […] Россия напоминает нам скорее Францию времен Людовика XIV[158].
Умы более отчаянные (или более заинтересованные) искали залог русского будущего в нетронутой отечественной архаике: в сектах, фольклоре и этнических пережитках типа общины. Америка менее всего подходила для разработки этих тем, в которых русское народничество продолжало немецкую традицию, воспринятую через славянофилов и теперь, наконец, нашедшую практическое применение. Под пером Петра Лаврова и его радикальных преемников Америка стала символом ненавистного капитализма, синонимом «власти чистогана» и «отчуждения масс». Но американское влияние пришлось на ключевой, самый сензитивный момент в развитии русского радикализма. Подобно тому как забываются впечатления детства, возвращаясь к человеку только в нелепых снах и в еще более странных ошибках, — подобно этому американские увлечения 1820–1860-х годов стерлись из памяти революционного движения, возвращаясь в абсурдно искаженных, но от этого еще более значительных формах.
Что делать? Видеть сныПамятниками американской теме стали главные русские тексты этой эпохи — Что делать? Чернышевского и Бесы Достоевского. В обоих романах Америка играет важнейшую закадровую роль: другое место, откуда вышли, о котором мечтают, куда исчезают и откуда возвращаются главные действующие лица.
Если русских западников традиционно делили по их симпатиям на англо- и галлофилов, то Чернышевского в его самый продуктивный период — до ареста, почти совпавшего с Гражданской войной в Новом Свете, — следует считать скорее «американистом». Действительно, Америка имела для него особое значение: образец социального прогресса, основанного на знании и Просвещении; пример освобождения рабов и победоносной Гражданской войны; модель, которую он предлагал демократической России. Осведомленность Чернышевского в американских реалиях выразилась в обильной и профессиональной публицистике[159]. Написав немало, трезво и компетентно о рабовладении и Гражданской войне, более интимные свои чувства Чернышевский воплотил в своем знаменитом романе.
Когда Вера Павловна вступает в плотские отношения с другим мужчиной, Лопухов инсценирует самоубийство и уезжает в Америку. Тут на сцену вступает Рахметов, который недавно, как раз накануне собственного отъезда в Америку, пережил свое «перерождение». Оторвавшись от «Толкования на Апокалипсис», Рахметов преподает Вере Павловне новую сексуальную этику; он даже назван в тексте «великим психологом». Согласно Рахметову, естественные желания следует удовлетворять в отличие от неестественных желаний, от которых следует лечиться. Чувство Веры Павловны к ее любовнику является естественным; ревность же есть неестественное чувство, от которого развитый человек должен освободить себя. В сложившейся ситуации развитым людям следовало бы жить всем вместе. «Очень спокойно могли вы все трое жить по-прежнему […] как-нибудь переместиться всем на одну квартиру […] только совершенно без всякого расстройства, и по-прежнему пить чай втроем, и по-прежнему ездить в оперу втроем»[160]. Со своим героем соглашается автор: «О сколько наслаждений развитому человеку! Даже то, что другой чувствует как жертву, горе, он чувствует как удовлетворение себе, как наслаждение, а для радостей так открыто его сердце, и как много их у него!» Поразительно, что это говорит тот самый Рахметов — и тот самый Чернышевский, — которых поколения читателей считали примерами революционного аскетизма. Рекомендации не ограничивались ни изображенным в романе адюльтером, ни даже жизнью втроем. Наоборот: «теперь Кирсановы составляют центр уже довольно большого числа семейств […] живущих так же ладно и счастливо, как они, и точно таких же по своим понятиям». В противоположность тому, что думали поколения читателей, Чернышевский призывал их не к лишениям, а к наслаждениям; не к аскетизму, а, наоборот, к гедонизму, правда очень своеобразному. Прочитав в сибирской ссылке рассказы Захер-Мазоха, Чернышевский считал этого писателя «много выше Флобера»[161]. Симпатия была взаимной: Мазох цитировал Чернышевского в Венере в мехах.
В Петербурге Рахметов занимался физкультурой и читал «Толкование на Апокалипсис». Потом он «объехал славянские земли, везде сближался со всеми классами […] ходил пешком из деревни в деревню». Потом он поехал дальше, через Европу на Запад; «ему „нужно“ быть уже в Северо-Американских штатах, изучить которые более „нужно“ ему, чем какую-нибудь другую землю […] но вероятнее, что года через три он возвратится в Россию». Вот этот Рахметов, в тексте романа так и не вернувшийся из Америки, стал моделью для нескольких поколений русских революционеров[162]. Зато вскоре после того, как Вере Павловне приснился ее четвертый сон, из Америки приехал ее первый муж Лопухов. Этот русский стал американцем с французской фамилией, которая теперь произносится по-английски: Лопухов-Бомон-Бьюмонт. Он, вероятно, назван так в честь товарища Токвиля по его знаменитому путешествию в Америку, которого звали Gustave de Beaumont. Так мы приходим к еще одной идентификации Рахметова-невозвращенца: если его товарищ назван в честь товарища Токвиля, не значит ли это, что русский автор, увлекавшийся Демократией в Америке[163], придумал американское путешествие Рахметова по образцу путешествия Токвиля? Хоть ни внешне, ни по своим взглядам Токвиль ничуть не похож на Рахметова, Чернышевский имел право не знать или игнорировать многие подробности.