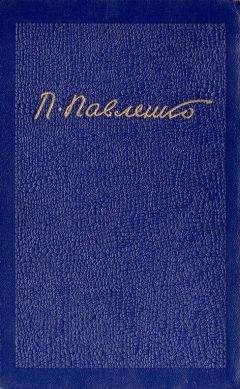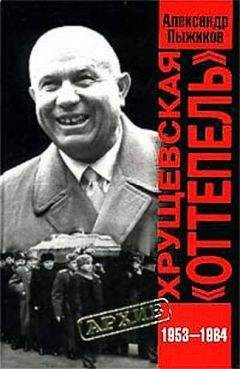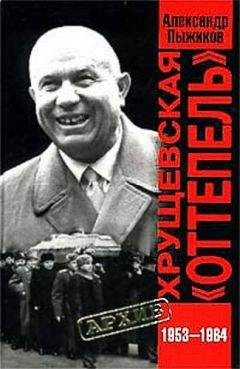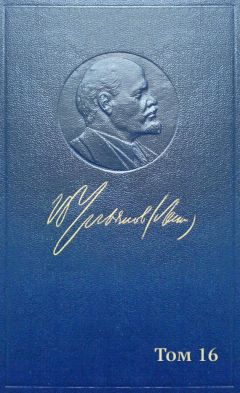Лев Вершинин - Россия против Запада. 1000-летняя война
Заключение этого союза, имеющего очевидно антироссийскую направленность, не вызвало немедленной реакции СПб, увязшего сразу в двух войнах, с Турцией и Швецией, что укрепило в поляках уверенность в своих силах. В сущности, принятие Конституции 1791-го стало прямым следствием договора 1790-го. И это было роковой ошибкой «патриотов». По той простой причине, что Россия просто не могла оставаться в стороне от событий, а недовольных новыми порядками в Польше было более чем достаточно. Обычно – как в самой Польше, так и в трудах большинства историков – этих оппозиционеров именуют «эгоистичными вельможами» и «предателями национальных интересов». Это, однако, не совсем верно. Безусловно, Конституция 1791 года, фактически поставившая крест на всевластии магнатов, сделала их вожаками протеста («гетманская партия»), но весь парадокс в том, что в ряды диссидентов массами вливались мелкие шляхтичи, искренне считавшие себя «борцами за демократию». И что интереснее всего, не без оснований, поскольку вековой польский бардак, практически уничтоживший государство, в то же время способствовал формированию в массах нищей шляхты чувство собственного политического достоинства. Укрепление власти в ущерб собственным гражданским (об экономических и речи не шло) правам эти люди воспринимали как беззаконную «тиранию», а защитников новой Конституции – как «приспешников диктатуры». Мало того, законодательное закрепление престола (пусть сто раз номинального) с правом наследования за Саксонским домом вызвало неприятие со стороны немалого числа поляков, помнивших времена Августов как эпоху абсолютного бессилия власти и желавших видеть монархом поляка. Такие настроения, вполне совпадавшие с мнением Станислава Понятовского, желавшего закрепить корону за своими наследниками, стали отправной точкой еще одного сектора оппозиции – «королевской партии». Излишне говорить, что возмущение как «демократов»-гетманцев, так и националистов-королевцев было с полным пониманием встречено в СПб. Так что после некоторой подготовки колесо закрутилось по нарастающей.
18 мая 1792-го Екатерина II выступила с протестом против новой польской Конституции и призвала поляков к гражданскому неповиновению «диктатуре», причем текст протеста едва ли не дословно совпадал с текстом листовок, распространяемых на территории Польши диссидентами. В тот же день польскую границу перешли российские войска – в количестве, скорее, декоративном, но большего и не требовалось: «гетманцы», объявив «войну тиранам», создали Тарговицкую конфедерацию – временное альтернативное правительство, немедленно поддержанное множеством поляков, и войска, посланные «патриотами» на подавление, быстро увязли в мелких безуспешных стычках. Стоит повторить, что российский контингент от участия в боевых действиях воздерживался, предоставляя «тарговичанам» самим решать свои проблемы, однако в случае нападения со стороны польских войск отпор следовал незамедлительный и жесткий. В связи с чем Варшава запросила о вмешательстве Австрию, в пику России поддержавшую новую Конституцию, и Пруссию, призвав ее оказать помощь, предусмотренную договором.
Вене, однако, было не до польских проблем, она все глубже увязала в войне с революционной Францией, успевшей ввести войска в Баварию и Нидерланды, Берлин же (о чем в Варшаве, естественно, не знали) еще за год до событий сообщил СПб о готовности «не препятствовать вразумлению смутьянов». Разумеется, в том случае, если Россия «готова учесть законные интересы Прусского королевства». Для «патриотов» это означало крах. Когда же в июле 1792-го к конфедерации официально присоединилась «королевская партия» и король Станислав издал указ о роспуске армии, все было решено окончательно. «Тарговичане» подошли к Варшаве и при поддержке российской артиллерии взяли ее штурмом, не встретив, впрочем, особого сопротивления: лидеры «патриотов» покинули страну еще до штурма Варшавы. Власть в стране перешла в руки конфедератов. Такой эндшпиль (status quo по состоянию на 1790 год) вполне устраивал Россию. Но, как выяснилось, не устраивал Пруссию. Спустя несколько дней, Берлин официальной нотой потребовал от СПб и Вены согласия на аннексию ряда территорий северо-запада Польши с жизненно важным для страны портом Гданьск. В подкрепление претензий прусские войска без предупреждений вошли в пределы Великой Польши, объявив в качестве обоснования, что считают это компенсацией за вступление в войну против Франции. Коллизия сложилась уникальная. «Французская зараза» на тот момент считалась самой крупной головной болью европейских монархий, тем более что к власти в Париже все увереннее рвались радикалы, король Людовик уже находился под арестом, а революционные армии бесцеремонно ломали границы. Поражение у Вальми сделало положение австрийцев отчаянным, предоставляя Берлину возможности для практически неограниченного шантажа. Чем он не преминул воспользоваться в полной мере, заодно загнав в тупик и Россию. СПб вовсе не был заинтересован в очередном разделе Польши, автоматически вводящем Пруссию в ранг великой державы, однако сорвать формирование антифранцузской коалиции Императрица не могла, тем более что выгнать пруссаков с уже занятых территорий дипломатическими методами не представлялось возможным. «…Если мы сделаем ему какую-либо помеху, – говорил русский дипломат Морков о прусском короле, – то он немедля заключит мир с этими французскими негодяями, нисколько не отказываясь от своего приобретения в Польше, откуда его можно будет прогнать только оружием».
Максимум, что оставалось в таком варианте, не будучи ни дилетантом, ни альтруистом, это извлечь из ситуации наибольшую пользу. Что и было сделано. 13 января 1793 года Пруссия и Россия подписали конвенцию о втором разделе, условия которого были официально объявлены полякам 27 марта в Волынском местечке Полонном и – по требованию держав – летом 1793 года ратифицированы в Гродно т. н. «Немым сеймом». Под власть Пруссии переходили не только все Поморье и Куявия с городами Торунь и Гданьск, но и Великая Польша, колыбель польской государственности с городом Гнезно – первой столицей древнего княжества племени лехов. В свою очередь, России отошла вся Белая Русь, почти вся Русь Черная и практически полностью Правобережная Украина. На щедрое предложение прусского короля поживиться за счет коренных польских земель из СПб последовал категорический отказ. Что касается Австрии, то все намеки Вены на «желательность компенсаций» в виде Кракова на сей раз зависли в воздухе. Берлин, собственно, не очень возражал, но возражала Екатерина, обещавшая руководству конфедератов уберечь их хотя бы от потери Малой Польши. Так что Австрии пришлось удовлетвориться твердым обещанием Пруссии все-таки объявить войну французам, успевшим к тому времени стать и цареубийцами. Пикантнее же всего, что главной виновницей очередного унижения польское общественное мнение почти единогласно объявило Россию. Совершенно позабыв о роли в событиях Пруссии. Завидное единство в этом вопросе выказали и «патриоты», и большинство лидеров «тарговичан». Что, впрочем, понятно: первым было никак не с руки лишний раз поминать Пруссию, в интригах с которой они запутались, доведя дело до катастрофы, а вторым не оставалось ничего иного, кроме как объявить себя жертвой «вероломного союзника», независимо от того, имело ли место «вероломство».
Глава XIII. Французский роман
Потрясение, вызванное в польском обществе событиями 1792 года, трудно описать словами. Уместнее всего, наверное, сравнить общественный шок с ситуацией в сегодняшней Грузии: для нормального поляка земли Великой и Малой Польши были примерно тем же, что Абхазия и Южная Осетия для нормального грузина. А тот факт, что армия, на создание которой ушло столько сил и средств, в которую так верили и которой так гордились, капитулировала, даже не дав генерального сражения, воспринимался (в сущности, справедливо) как предательство. Авторитет власти упал ниже плинтуса. Короля презирали. Правительство «тарговичан», согласившееся (неважно, что под давлением) на аннексию коренных польских земель, ненавидели; оно держалось не столько даже на штыках российских гарнизонов, размещенных в Варшаве и Вильно (они были невелики), сколько на глубочайшем кризисе политической элиты. Партии, недавно еще бойкие и активные, фактически перестали существовать, их лидеры (не пожелавшие признать случившееся) или отошли от активной деятельности, или бежали из страны в Саксонию, где уже мало кому было дело до того, кто раньше был «гетманцем», кто «королевцем», а кто «патриотом»; лидерство в эмигрантских кругах вполне закономерно перехватили самые радикальные представители бывшей «патриотической» партии, идейно близкие к французским якобинцам. И, соответственно, именно с революционной Францией связавшие свои надежды на освобождение Отчизны.