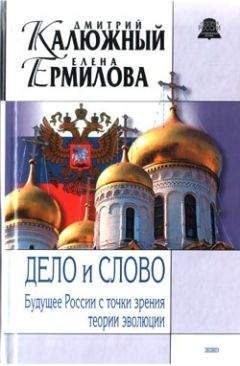Александр Колпакиди - Оккультные силы СССР
Через две недели Мария Тимофеевна была на ногах, а вскоре приступила к работе. Она ответила добром на добро и способствовала освобождению Петра Александровича от очередного ареста в 1920 году. После его смерти продолжала периодически лечиться у Елизаветы Федоровны, сохранив до конца дней своих чудесное, редкое отношение ко всей нашей семье.
Петр Александрович как будто примирился с новой властью, но характер давал себя знать.
Был еще один памятный случай… Бадмаевы ездили на прием со станции Удельная в Петербург на поезде — экипажа уже не было. Они доезжали до Финляндского, а потом до Литейного брали извозчика… И возвращались вечером таким же путем. Часто ехали втроем — Петр Александрович, Елизавета Федоровна и их дочь Лида. В вагоне была разная публика — матросы, солдаты… Зашел разговор о положении в России. В то время в Петрограде был голод. Бадмаев не выдержал и вмешался в разговор. «Ну и чего вы добились своей революцией?» — спросил он солдата. Тот стал доказывать, начался спор. Вдруг к деду подходит матрос с маузером: «А, тут контра завелась! В Чека его!..» И на первой же остановке, Ланской, Петра Александровича вывели из вагона. Елизавета Федоровна с дочерью пошла за ним вслед. Она плакала и говорила мужу:
«Ах, Петр Александрович, вы никогда не думаете о своих близких!.. Пощадили б хоть Лиду!»
И когда все вышли на платформу, Бадмаев вдруг низко поклонился окружавшим его людям и сказал: «Простите старика! По глупости погорячился!»
Матросы рассмеялись, посоветовали ему попридержать язык впредь, если он не хочет неприятностей, и отпустили.
Бадмаев, увидев плачущую Елизавету Федоровну, спросил про дочь. «Ах, не все ли вам равно, где Лида, что с нами?» — с упреком сказала бабушка. Это, кажется, был единственный случай, когда она осудила его действия".
Главным для П. А. Бадмаева всегда оставалась тибетская медицина. Все свои силы и знания он отдавал врачебной и научной деятельности и всю жизнь боролся за признание методов тибетской медицины.
«Вполне сознаю, — писал он, — что эта наука сделается достоянием образованного мира только тогда, когда даровитые специалисты-европейцы начнут изучать ее».
Дочь П. А. Бадмаева Лидия Петровна вспоминала, в частности:
"Мне известно, что Петр Александрович получил официальное уведомление властей о том, что по желанию он может принять японское подданство — за него ходатайствовал японский посол — и с семьей выехать в Японию. Отец категорически отказался покинуть Россию.
Между тем его белокаменную дачу на Поклонной горе с прилегающей к ней землей конфисковали, как и угодья на Дону и в Чите. А вот бревенчатый пятикомнатный особняк на Ярославском проспекте, в восьмистах метрах от Поклонной, записанный на Елизавету Федоровну, чекисты упустили. Хотя они бывали и здесь, но ограничились арестом Петра Александровича и тем, что прокололи штыками старинные картины в золоченых рамах — искали тайники с оружием.
Бадмаеву оставили его приемную и кабинет на Литейном, а имение на Поклонной перешло в ведение военных властей. Там должна была стоять батарея. И мы все запасы лекарственных трав перевезли с Поклонной в находящийся поблизости мамин одноэтажный домик на Ярославском с чудесным садом с кустами сирени и жасмина. В нем жила наша домработница и моя няня Кулюша. Часть лекарств перевезли на Литейный. В этот период произошло событие, очень тяжело пережитое мной.
Кулюша поехала с тележкой на Поклонную добрать какие-то вещи. И там сцепилась с солдатами, она была боевая, могла отбрить. Началось с пустяка, мол, попортили вещи. Слово за слово… Кулюшу арестовали и отправили в тюрьму. К нам на Ярославский прибежала соседка и рассказала, как Кулюшу повели солдаты. Я ревела во весь голос. Привязанность к Кулю-ше была, пожалуй, сильней, чем к матери. Плача, я поехала разыскивать маму в город. Отец в это время тоже находился в тюрьме на Шпалерной…
Эти дни были страшные для меня. С Кулюшей я всегда чувствовала себя под надежной защитой, ощущала ее любовь и заботу; мама была целиком поглощена хлопотами об отце или же вела прием больных за него… После ареста Кулюши мама буквально металась, хлопоча за двоих, и наконец вновь обратилась к Марии Тимофеевне. И я пошла вместе с мамой. Мария Тимофеевна обещала разобраться, но не все зависело от нее. Как первый этап, мне разрешили свидание с Кулюшей. Несла я узелок с бельем и сэкономленные сухие корки хлеба. Час свидания, когда Кулюша подошла в платке к решетке и дрогнувшим голосом сказала мне: «Ну здравствуй, девонька, не плачь…» — голос этот звучит и сейчас в памяти. Я не могла говорить, задыхалась от слез. Скоро свидание кончилось, и я уныло побрела домой.
Кулюшу освободили через две недели с предупреждением «не распускать язык». Вернулась она похудевшая, молчаливая и какая-то притихшая, а я сияла: теперь все было не страшно.
…Наступали самые суровые дни моего детства, зима 1919/20 года была очень трудной, голод давал себя чувствовать… Петр Александрович снова находился в заключении…"
Вот полный текст заявления Петра Александровича, написанного в то время в ЧК из тюрьмы, — оно и поныне хранится вместе с другими документами в личном деле П. А. Бад-маева на Литейном, 4.
"Председателю ЧК тов. Медведь
Отделение 3-е, камера 21
Шпалерная ул., дом № 25
от Петра Александровича Бадмаева,
врача тибето-монгольской медицины,
кандидата Петроградского университета,
окончившего Медико-хирургической академии курс,
старика 109 лет [То, что Бадмаев «старик 109 лет», не соотносится с другими датами. Даже Елизавета Федоровна не знала точно, когда он родился. Не случайно на его могиле указана лишь дата смерти].
Заявление
Я по своей профессии интернационал. Я лечил лиц всех наций, всех классов и лиц крайних партий — террористов и монархистов.
Масса пролетарий у меня лечились, а также богатый и знатный классы. До момента последнего моего ареста у меня лечились матросы, красноармейцы, комиссары, а также все классы населения Петербурга.
Сын мой, как командир конной разведки Красной Армии, будучи на разведке за Глазовом, был ранен осколками бомб белогвардейцев в левую руку выше локтя, и убита была под ним лошадь. Поправившись от ран, сын вновь вернулся в свою часть и участвовал при взятии красными войсками гор. Перми, и за отличие сын мой был награжден. Я же, отец его, 109 лет старик, потому только, что имею большое имя, популярное в народе, — сижу в заключении без всякой вины и причины уже два месяца. Я могу Вам сказать, тов. Медведь, что члены Вашей ЧК, допрашивавшие меня, если сложить года четырех их всех, то и в этом случае сложенные года окажутся менее, чем мои 109 лет. Я всю жизнь свою трудился не менее 14 часов в сутки в продолжение 90 лет исключительно для блага всего человечества и для оказания им помощи в тяжких заболеваниях и страданиях.
Неужели в Вашем уме, Вашей совести не промелькнула мысль, что гр. Бадмаев, какое бы громкое и популярное имя ни имел бы, не может повредить Вашему коммунистическо-му строю, тем более он активной, агитаторской политикой никогда не занимался и теперь не занимается.
Мой ум, мои чувства и мои мысли не озлоблены против существующего ныне строя, несмотря на то, что я окончательно разорен, ограблен, о чем хорошо знает обо всем этом военный комиссар, который посылал следователя для установления такового факта, и несмотря на все это я арестованный сижу совершенно безвинно.
Если Вы спросите, почему я не озлоблен, то я отвечу Вам, что перевороты иначе не совершаются.
На основании вышеизложенного во имя коммунистической справедливости прошу Вас освободить меня и вернуть к моей трудовой жизни.
Петр Бадмаев 1919 года, 10 августа".
На заявлении размашистая резолюция от 12 августа (долго не размышляли): «Отправлен в Чесменскую богадельню». П. А. Бадмаев взывал к коммунистической справедливости — он ее получил.
Лидия Петровна вспоминает об этом времени так:
"С ноября отец был переведен в Чесменский лагерь; этот лагерь находился на другом конце города в пяти километрах от Нарвских ворот. Трамвай доходил лишь до ворот, оттуда пешком по шоссе. Можно было доезжать туда поездом-летучкой, курсировавшей от города, но затем идти полем по кочкам и через канавы — путь тоже нелегкий, особенно для мамы. Вагоны подавали нерегулярно, правда, почти пустые, холодные, иногда без стекол. Однажды я так замерзла, что меня оттирали в конторе начальника вокзала; одета была довольно легко: бархатная шубка, из которой я уже выросла, и кожаные сапожки. А морозы доходили до — 25°.
Ездить приходилось через день. Передачи были разрешены в любое время. К отцу пускали даже больных на консультацию. Ездили день — мама, день — я. В свой день я ехала снаряженная Кулюшей, а с Удельной начинала свой трудный поход: на поезде до города, трамваем до Нарвских ворот, а там пешком до лагеря.