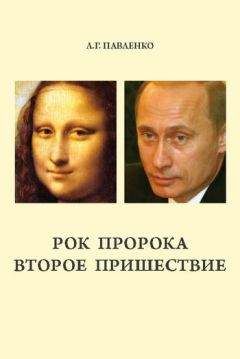Сергей Кургинян - Суть Времени 2012 № 1 (24 октября 2012)
Другая часть этого класса имитирует подчинение воле плебса и его вожаков — и ждет, пока огонь погаснет. После этого можно снова переходить к Игре, надеясь, что теперь-то она всевластна. Так ведь нет, возгорается новый огонь, и новый плебс бушует под окнами.
Возникает аристократическая мечта о том, чтобы погасить огонь однажды и навсегда. Она же — мечта о конце истории. В этом смысле конец истории равносилен невозможности возникновения новых исторических проектов, равносилен неспособности каких-либо крупных человеческих масс воспламеняться огнем любви к новому историческому идеалу. То есть идеалу, который, будучи новым, одновременно является и сокровенно преемственным по отношению к идеалам предшествующим.
С этой точки зрения всмотримся в современную жизнь и спросим себя: «Так ли уж неоснователен тезис Фукуямы о конце истории и начале постистории, а далее и о последнем человеке? Какие крупные человеческие массы способны возгореться огнем любви к новому историческому идеалу? И каков он, этот новый исторический идеал?»
Может ли возгореться реальная Европа? Конечно, все возможно. Но на сегодняшний день Европа совсем лишена исторического огня. Небольшие европейские группы лелеют традиционные ценности, но между подобной мистерией традиционализма и историческим огнем нет, как мы понимаем, никакой связи. Существенная часть европейского населения способна возмутиться, если капиталисты начнут отбирать социальные завоевания у трудящихся. Но подобное возмущение опять-таки страшно далеко от исторического огня, который мы обсуждаем.
В США ситуация ненамного лучше. Там есть остатки идеологической страсти по «Граду на холме». Но это те самые реликты, о которых писал Фукуяма. Они могут носить консервативный или религиозно-фундаменталистский характер, но не имеют ничего общего с новой «перегретой» исторической страстью, необходимой для продолжения истории.
Китай — достаточно холоден и прагматичен, как и вся Юго-Восточная Азия. Существенная часть индийского населения религиозно накалена, но эта страсть неисторична в том смысле, который мы сейчас обсуждаем.
Перечисляя все это, естественно, натыкаешься на ислам. Тут есть и огненная страсть, и масштаб. Но тут опять-таки нет главного — исторической новизны. Нет настоящей воли к продолжению истории.
Тем не менее, именно наличие огненного ислама (а его огонь отрицать невозможно) привело к тому, что в начале XXI века Фукуяма отказался от концепции конца истории.
Но мы, в отличие от Фукуямы, не можем менять точку зрения в зависимости от того, пришли ли к власти американские демократы, грезящие о конце истории, или республиканцы, имеющие другое представление о концептуальной власти и концептуальной войне. И признаем, что фундаменталистский ислам не обеспечивает нового исторического огня.
Но где же тогда может этот огонь возгореться? В Латинской Америке? Да, этот во многом загадочный континент наполнен страстью и разнообразными идеологическими исканиями. Но пока совершенно не ясно, способен ли он к полноценному идеологическому воспламенению.
А значит, остается Россия. Не потому, что нам так хочется, а исходя из объективной «карты исторических температур». Да, красный огонь, которым Россия воспламенилась в 1917 году и который спас историю, удалось погасить в ходе так называемой перестройки. Кстати, в этом смысле перестройка — это тоже отнюдь не только идеологическая, но и концептуальная военная операция.
Но удалось ли этот огонь погасить навсегда? Не является ли то, что мы наблюдаем в России вообще и, в частности, в молодежной среде, сформировавшей «Суть времени», — свидетельством исторической неисчерпанности именно русского континента? Не придет ли с этого континента в очередной раз историческое спасение?
Этот вопрос не имеет однозначного ответа. Да и нужен ли он сейчас?
Но мир без истории не просто мрачен. Он тосклив и уродлив одновременно. Именно это осознал герой Гессе, заявив, что он уходит из мира игры, ибо хочет служить жизни. Правда, он тут же утонул. Но это отвечает представлению Гессе о потенциале истории. Есть ведь и другие точки зрения…
В завершение этой статьи даю слово Андрею Платонову, герой которого из «Сокровенного человека» слишком похож на Кожева и Фукуяму одновременно:
«…с бронепоезда сошел белый офицер, Леонид Маевский. Он был молод и умен, до войны писал стихи и изучал историю религии.
Он остановился у тела Афонина. Тот лежал огромным, грязным и сильным человеком.
Маевскому надоела война, он не верил в человеческое общество, и его тянуло к библиотекам.
«Неужели они правы? — спросил он себя и мертвых. — Нет, никто не прав: человечеству осталось одно одиночество. Века мы мучаем друг друга, — значит, надо разойтись и кончить историю».
До конца своего последнего дня Маевский не понял, что гораздо легче кончить себя, чем историю.
Поздно вечером бронепоезд матросов вскочил на полустанок и начал громить белых в упор. Беспамятная, неистовая сила матросов почти вся полегла трупами — поперек мертвого отряда железнодорожников, но из белых совсем никто не ушел. Маевский застрелился в поезде, и отчаяние его было так велико, что он умер раньше своего выстрела».
Война идей
Холодная война вчера и сегодня
Все разговоры о том, что идеологическая война завершена, — от лукавого
Мария Мамиконян
Война идей, а точнее, идеологическая война ведется ради уничтожения такого нематериального объекта, как системообразующая идея.
Начиная обсуждать именно идеологические войны и отделяя их от войн, в которых уничтожению подлежат другие — столь же нематериальные — объекты, давайте сразу договоримся по поводу базовых определений. Иначе мы неминуемо запутаемся, причем достаточно быстро.
Если противник атакует не идею, а, например, среду, в которой эти идеи возникают, то речь идет уже о другой войне — например, концептуальной или культурной. Нас же сейчас интересует судьба системообразующих идей — именно идей, и именно системообразующих — и то, как именно их уничтожает противник. Нельзя изучать подобный вопрос абстрактно, продуктивно только исследование актуальной конкретики.
Война идей, а точнее, идеологическая война всем хорошо памятна по советским временам. Как тогда писали: «Два мира — две системы». Каждая из систем боролась за то, чтобы победила ее системообразующая идея, а чужая была разгромлена: посрамлена, дискредитирована, развенчана.
Какова была системообразующая идея в Советском Союзе, все, конечно, помнят. Она называлась коммунизм. Возникла идея задолго до образования СССР, но реализовывать ее начали именно в СССР. И именно это беспокоило противника. То есть, конечно, противника беспокоила мощь нашего государства как таковая. Но он понимал, что источник силы — это идея, завоевывающая умы.
Конечно же, идея становится материальной силой, лишь завоевав массы. Конечно же, массы, воодушевленные идеей, должны взять власть. Конечно же, взяв власть, они должны построить мощное государство. Но поскольку все происходит именно в этом порядке: сначала идея, потом массы, потом государство — то разгром идеи, подавив массы морально, разрушит государство. Поэтому поговорим об идее.
Французский поэт XIX века Пьер-Жан Беранже написал о ней нижеследующие строки:
От зол земных душой скудея,
Искал я выхода в мечтах,
И вот гляжу: летит Идея,
Всем буржуа внушая страх.
Очевидно, что речь шла именно о коммунистической идее — в ее утопическом варианте. Другой идеи, внушающей страх всем буржуа, просто не было. В пользу этого говорят и остальные стихотворения Беранже, написанные на ту же тему.
Зафиксировав факт явления Идеи миру, Беранже продолжает:
О, как была она прекрасна,
Хотя слаба и молода!
Но с божьей помощью, — мне ясно, —
Она окрепнет, господа!
Далее идет диалог поэта с Идеей, в котором он предупреждает, что буржуа будут жесточайше подавлять ее сторонников, а Идея подробно объясняет поэту, что насилие по отношению к людям, исповедующим такую идею, контрпродуктивно. Не будем спорить. В какой-то степени это действительно так. Хотя… прекраснодушие, с которым Беранже рассуждает на тему о скрепляющей силе крови мучеников за идею, вызывает сложное чувство. Восстание, захлебнувшееся в крови… этот образ, согласитесь, тоже имеет право на существование.
В одном Беранже, безусловно, прав — буржуа смертельно испугались новой идеи. И вскоре поняли, что борьба с ней потребует чего-то экстраординарного. И что на алтарь этой экстраординарной борьбы необходимо будет принести очень серьезные жертвы. В дальнейшем необходимо обсудить, как именно начали буржуа бороться с враждебной идеей, насколько изощренной стала в итоге эта борьба. Сейчас же надо зафиксировать главное. Никакие изыски буржуазной борьбы с коммунистической идеей, никакие тонкие игры на поле идей как таковых, ничего бы сами по себе не дали и буржуазию бы не спасли. Такие тонкие игры были абсолютно необходимы в качестве дополнительного элемента борьбы с идеей. Основным же стал сговор с теми силами, которые буржуазия до того беспощадно подавляла. Подавляла вплоть до того момента, когда страх перед идеей (она же призрак коммунизма) не побудил к фундаментальной переоценке приоритетов, ценностей, подходов и не заставил пойти на капитуляцию.