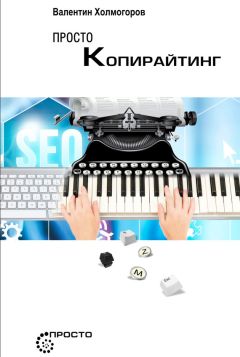Сергей Кара-Мурза - Россия не Запад, или Что нас ждет
Народники предложили концепцию индустриализации и модернизации России не так, как она осуществлялась в ходе буржуазной промышленной революции на Западе— не через разрушение выработанных культурой общественных институтов, а с опорой на эти институты (прежде всего, на общину и с вовлечением крестьянства).
Это, в принципе, был путь реформаторский (по такому пути пошла Япония в Реставрации Мэйдзи). Он вызвал резкую критику со стороны марксизма. Стараясь доходчиво объяснить, почему крестьянская и общинная Россия обязана следовать по пути развития буржуазии с разделением народа по классовому признаку, Энгельс поясняет эту мысль таким образом: «У дикарей и полудикарей часто тоже нет никаких классовых различий, и через такое состояние прошел каждый народ. Восстанавливать его снова нам и в голову не может прийти» [54, с. 537].
Эта аналогия ложная. Найти в концепции народников стремление восстановить неклассовое общество «дикарей и полудикарей» невозможно даже при самой вольной трактовке их трудов. Замечу к тому же, что Энгельс иронизирует в 1875 г., когда в разгаре уже была Реставрация Мэйдзи в Японии— реформирование, имевшее целью форсированную модернизацию общества и хозяйства не по западному пути, а с опорой на традиционные (и даже архаичные) японские институты.
Например, тогда была сознательно выработана специфическая японская модель промышленного предприятия, построенного не на принципах рынка рабочей силы, а на основе межсословного и межкланового контракта, как это практиковалось в Японии XI века в контрактах между крестьянской общиной, ремесленниками и кланами самураев. К этому же принципу обратились в ходе модернизации Японии после Второй мировой войны.
Об этом писал президент одной из крупнейших японских корпораций «Мицуи дзосен» Исаму Ямасита: «После Второй мировой войны… существовавший многие века дух деревенской общины начал разрушаться. Тогда мы возродили старую общину на своих промышленных предприятиях… Прежде всего мы, менеджеры, несем ответственность за сохранение общинной жизни… Воспроизводимый в городе… общинный дух экспортируется обратно в деревню во время летнего и зимнего «исхода» горожан, гальванизирует там общинное сознание и сам в результате получает дополнительный толчок» (цит. в [17, с. 418]).
«Восстанавливать это нам и в голову не может прийти!»— воскликнул бы Энгельс. Но оказалось, что у Японии были и свои головы.
Важнейшим понятием в концепции «неподражательного» пути развития было народное производство, представленное прежде всего крестьянским трудовым хозяйством.[20] Очевидно, что реформирование с опорой на крестьянскую общину принимало совершенно иные формы, нежели преобразование общества после победоносных буржуазных революций, осуществивших раскрестьянивание, как на Западе. Там общинные отношения и даже мировоззрение были ликвидированы политическими и культурными средствами, в основу самоосознания человека был положен индивидуализм. Соответственно, и доктрины реформ вырабатывались на основе методологического индивидуализма, то есть идя от интересов индивида в поиске компромиссов между конкурирующими социальными группами.
В России реформаторы исходили из интересов целого («России»), как его понимало господствующее меньшинство или оппозиция. Это с горечью признавали российские западники. Видный праволиберальный деятель Е. Трубецкой писал в 1911 г. в газете «Русская мысль»: «В других странах наиболее утопическими справедливо признаются наиболее крайние проекты преобразований общественных и политических. У нас наоборот: чем проект умереннее, тем он утопичнее, неосуществимее. При данных исторических условиях, например, у нас легче, возможнее осуществить «неограниченное народное самодержавие», чем манифест 17 октября. Уродливый по существу проект «передачи всей земли народу» безо всякого вознаграждения землевладельцев менее утопичен, т. е. легче осуществим, нежели умеренно-радикальный проект «принудительного отчуждения за справедливое вознаграждение». Ибо первый имеет за себя реальную силу крестьянских масс, тогда как второй представляет собой беспочвенную мечту отдельных интеллигентских групп, людей свободных профессий да тонкого слоя городской буржуазии» (цит. в [55]).
М. Вебер, внимательно изучая программы российских либеральных западников, писал, что кадеты прокладывали дорогу как раз тем устремлениям, что устраняли их самих с политической арены. Именно трагическая несовместимость их программы с чаяниями и культурой российского общества стала объектом важного исследования Вебера и много дала ему для понимания современного капитализма и традиционного общества как двух различных цивилизационных траекторий.
Кадеты как носители идеалов современного либерального капитализма вошли в неразрешимое противоречие с традиционным обществом России как цивилизации — и по ходу событий все отчетливее это сознавали. Главное противоречие их программы заключалось в том, что они стремились ослабить или устранить тот барьер, который ставило на пути развития либерального капиталистического общества самодержавие с его сословным бюрократическим государством. Но Вебер видел, что при этом через прорванную кадетами плотину хлынут мощные антибуржуазные силы, так что идеалы кадетов станут абсолютно недостижимы. Либеральная аграрная реформа, которой требовали кадеты, «по всей вероятности, мощно усилит в экономической практике, как и з экономическом сознании масс, архаический, по своей сущности, коммунизм крестьян», — вот вывод Вебера. Таким образом, реформа «должна замедлить развитие западноевропейской индивидуалистической культуры» [56].
При этом политические требования кадетов как будто совпадали с крестьянскими — и те и другие поддерживали идею всеобщего избирательного права. Но Вебер считает, что эти взгляды кадетов ошибочны, потому что крестьяне исходят из совсем иного основания: в их глазах всякие ограниче ния избирательного права противоречат традиции русской общины, в которой каждый землепользователь имел право голоса. Но, как пишет Вебер, «ни из чего не видно, что крестьянство симпатизирует идеалу личной свободы в западноевропейском духе. Гораздо больше шансов, что случится прямо противоположное. Потому что весь образ жизни в сельской России определяется институтом полевой общины»’.
Ю.Н. Давыдов пишет: «Анализ сознания и практических устремлений всех общественно-политических сил, так или иначе вовлеченных в революционные события 1905–1906 гг., — интеллигенции, инициировавшей революцию и игравшей в ней наиболее активную роль, крестьянства, тонкого слоя собственно «буржуазии», малочисленного рабочего класса и аморфной городской «мелкой буржуазии»— привел Вебера к заключению, что «массы», которым всеобщее избирательное право «всучило» бы власть, не будут действовать в духе либеральной буржуазно-демократической программы…
Более того, согласно веберовскому убеждению, есть все основания полагать, что «массам» будут импонировать требования, в основе которых лежат интересы, диаметрально противоположные главной идее конституционных демократов, «по поводу» которой, собственно, и образовалась эта партия, — идее «прав человека»…» [57].
Сталкиваясь с тем, что происходило на их глазах, кадеты все больше и больше заходили в тупик. Все очевиднее было, что на все действия реформаторов-«западников» — как власть имущих, так и действующих в оппозиции— Россия отвечала «неправильно». Реформа, которой все ждали, явно буксует— при полном отсутствии сопротивления, которое можно было бы выявить и подавить. Иными словами, это незнание было вызвано не дефектами образования отдельных личностей, оно было явлением цивилизационным. В команде Горбачева было немало «добрых» реформаторов, которые начали калечить организм СССР из самых лучших побуждений — просто не зная его глубинной сути.
Но гораздо раньше, чем Вебер, несовместимую с западными представлениями суть российского реформаторства второй половины XIX века понял Маркс. Эта его установка сложилась давно и была отдельной главой русофобии. Даже действия по модернизации социального порядка и очевидно либеральные реформы в России вызывали у Маркса подозрение в тайных злонамеренных замыслах против Запада. Так, отмена крепостного права в 1861 г. вызвала такую отрицательную оценку Маркса: «Одни говорят, что Россия, благодаря освобождению крестьян, вступила в семью цивилизованных народов… Так вот, что касается освобождения крестьян в России, то оно избавило верховную правительственную власть от противодействия, какое могли оказывать ее централизаторской деятельности дворяне. Оно создало широкие возможности для вербовки в свою армию, подорвало общинную собственность русских крестьян, разъединило их и укрепило их веру в царя-батюшку. Оно не очистило их от азиатского варварства, ибо цивилизация создается веками» [25, с. 207].