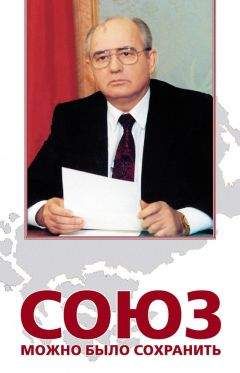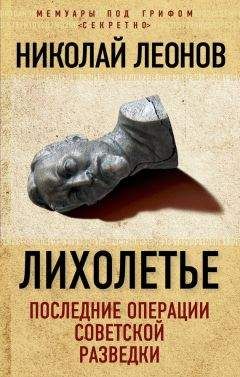Рой Медведев - Советский Союз. Последние годы жизни. Конец советской империи
В своих мемуарах М. Горбачев пытался представить свои указы и назначения результатом собственных решений. Однако из воспоминаний В. Бакатина, срочно вызванного в Кремль утром 23 августа, мы можем узнать, что вместе с Горбачевым в его кремлевском кабинете сидел и Ельцин и что именно Ельцин продиктовал содержание нового указа – не только назначить нового председателя КГБ, но и поручить ему провести коренную реорганизацию Комитета государственной безопасности[252]. Б. Ельцин также писал в своих воспоминаниях, что он сразу же начал разговор с Горбачевым тоном приказа, желая ясно дать понять Президенту СССР, что отныне характер их отношений полностью изменился. «Горбачев внимательно посмотрел на меня, – свидетельствовал Ельцин. – Это был взгляд зажатого в угол человека. Но другого выхода у меня не было. От жесткой последовательности моей позиции зависело все»[253]. Режим двоевластия кончился, хотя Горбачеву понадобилось еще много недель, чтобы понять это в полном объеме.
Утром 23 августа Михаил Горбачев был приглашен Б. Ельциным и Р. Хасбулатовым в Белый дом на шедшую здесь уже второй день внеочередную сессию Верховного Совета РСФСР. Когда Горбачев подъехал к Белому дому, у входа его встретила толпа, настроенная явно недоброжелательно. Раздавались громкие возгласы: «В отставку! В отставку!» Горбачеву была предоставлена трибуна для выступления, и его встреча с народными депутатами России транслировалась по телевидению в прямом эфире. Эта передача оставила у большинства граждан страны тягостное впечатление, хотя и по разным причинам. Речь Горбачева была не слишком связной, она часто прерывалась, а вскоре превратилась в унизительный допрос, руководимый лично Ельциным. Сначала Ельцин попытался вынудить Горбачева публично утвердить все указы, которые были подписаны Президентом России 19 – 21 августа, в которых тот брал на себя функции союзного президента. Но Горбачев еще не успел все эти указы даже прочесть. «Борис Николаевич, – взмолился он, – мы же не договаривались все сразу выдавать, все секреты». «Это не секрет, – возразил Ельцин, – это серьезно. Специально подготовлен целый блок, Михаил Сергеевич, – «Указы и постановления, принятые в осажденном Доме Советов». Так и называется. Мы вам вручаем!» (Бурные аплодисменты, шум, свист, выкрики, смех в зале.)»[254]. Затем Ельцин вручил Горбачеву текст какой-то стенограммы и заставил Президента СССР зачитать этот текст всему залу, объявив, что это протокол заседания Кабинета министров СССР с объявлением поддержки ГКЧП. Между тем заседание Кабинета министров СССР 19 августа проходило в неполном составе, это заседание не стенографировалось, и правительство не принимало никаких решений в поддержку ГКЧП, хотя и приняло к сведению информацию премьера В. Павлова о введении в стране чрезвычайного положения. Вероятно, это была запись одного из министров. Через несколько минут Ельцин снова прервал Горбачева и обратился к депутатам Верховного Совета: «Товарищи, для разрядки. Разрешите подписать указ о приостановлении деятельности Российской компартии...» (В зале овация, выкрики «Браво!», «Ура!».) Горбачев только испуганно восклицал: «Борис Николаевич... Борис Николаевич». Но Ельцин, явно куражась, громко произнес: «Я подписываю. Указ подписан». В зале снова звучали крики «Ура!» и «Браво!». Горбачев пытался возражать: «Я не знаю, что там написано и как он называется. Если так, как сказал Борис Николаевич, то Верховный Совет, который столько сделал, в этом случае вряд ли должен поддержать президента Бориса Николаевича, которого я уважаю и об этом (выкрики из зала)... Одну минуточку, не вся Компартия России участвовала, коммунисты России участвовали в заговоре и его поддерживали (выкрики из зала). Поэтому, если установлено, что Российский комитет и какие-то комитеты в областях солидаризовались с этим комитетом, то я такой бы указ поддержал. Запрещать компартию – это, я вам скажу, будет ошибкой со стороны такого демократичного и Верховного Совета, и Президента России. Поэтому – точно ли назван указ?» – Б.Н. Ельцин: «Михаил Сергеевич, не о запрещении, а о приостановлении деятельности Российской компартии до выяснения судебными органами ее причастности ко всем этим событиям. Это совершенно законно». – М.С. Горбачев: «Это уже другое дело. (Аплодисменты, бурные аплодисменты.)»[255]. Горбачев сошел с трибуны растерянным или даже поверженным. Через несколько минут Ельцин пригласил Горбачева в свой кабинет. Это была встреча с глазу на глаз, но Горбачев не мог забыть о ней и через десять лет. «Ну знаете, – говорил экс-президент в одном из интервью в 2001 г., – это как пойманную мышку кот гоняет: намял ей бока, уже с нее течет, а он все не хочет съедать, а хочет поиздеваться. Это он делал. Делал». Одна из газет писала, что после встречи с Ельциным мы увидели совсем нового Горбачева: он выглядел как собака, которая покорно плетется за отхлеставшим ее хозяином. Горбачев был публично и сознательно унижен, и Ельцин явно наслаждался этим. Западные газеты вышли на следующий день с ироническими комментариями и карикатурами. На одной из них громадный Ельцин протягивает руку крошечному Горбачеву.
Итальянский журналист Джульетто Кьеза, который много писал о Горбачеве и симпатизировал ему, так описывал события в зале заседаний Верховного Совета РСФСР: «Полтора часа очень жесткого и вызывающего сожаление противостояния показались в большей степени процессом против законного президента, чем его возвращением к власти. Горбачев сделал все, чтобы показать существование тандема Горбачев – Ельцин, но Борис Николаевич буквально поджигает почву под его ногами при каждом шаге, начиная с первых ответов Горбачева на вопросы депутатов. Но это было только началом невероятного, небывалого зрелища, которое всем следовало бы хорошенько осмыслить. «Не думаете ли вы, – напирает один из депутатов, – что социализм необходимо в СССР запретить, а Коммунистическую партию распустить, поскольку это преступная организация?» Президент встает на дыбы: «Но ведь это вариант крестового похода... Социализм – это убеждение, а мы с вами провозгласили право на свободу мнений и плюрализм. Никто не имеет права поставить под сомнение эту свободу. Это было бы введением еще одной утопии и охотой за ведьмами». Он пытается сдержать себя: «В Коммунистической партии миллионы честных людей, которых нельзя объединить с путчистами». Но Ельцин подписывает указ о прекращении деятельности Компартии и объявляет о том, что здание Центрального Комитета КПСС опечатано. Призыв к «единству демократических сил», с которым Горбачев чуть ранее обратился к залу, и его предложение «не преподносить подарка консервативным силам» падают как в пустоту. Победители хотят получить все»[256].
После полудня 23 августа центр событий снова переместился на Старую площадь, где возле зданий ЦК КПСС скопились огромные толпы людей. Еще 22 августа на заседаниях Верховного Совета СССР и Моссовета раздавались предложения запретить КПСС и конфисковать ее имущество. Наиболее радикальными были предложения мэра Москвы Гавриила Попова, который предлагал не только немедленно запретить КПСС и отнять у этой партии все здания и имущество, но и «выкорчевать все ядовитые побеги коммунизма». С этой целью он предлагал запретить издание всех коммунистических газет и журналов, и в первую очередь «Правды», «Советской России», «Рабочей трибуны». Это были не только слова. В тот же день Г. Попов издал распоряжение мэрии о национализации имущества Московского горкома партии, а также имущества райкомов партии в Москве. Возглавляемая Г. Поповым толпа воинственно настроенных людей вечером 22 августа собралась у здания горкома партии на Новой площади. В стеклянную вывеску горкома полетели камни. Для описи принадлежащего МГК имущества был вызван управляющий делами мэрии. Но в горкоме партии уже закончился рабочий день, работники аппарата ушли, и все помещения были заперты. Взламывать двери и сейфы организаторы этой акции все же не решились, ограничившись опечатыванием дверей у главного подъезда МГК. Не пострадали в этот вечер и здания ЦК КПСС, которые были расположены рядом, на Старой площади.
На следующий день, 23 августа, большинство работников аппарата ЦК КПСС и ЦК КП РСФСР вышли на работу. В своих кабинетах появились секретари ЦК КПСС: Валентин Фалин, Александр Дзасохов, Галина Семенова, Владимир Калашников. В здании Российской компартии работал Валентин Купцов, сменивший в июле И. Полозкова на посту первого секретаря ЦК КП РСФСР. Был здесь и первый секретарь Московского горкома КПСС Юрий Прокофьев, а также многие работники горкома партии; их собственное здание было опечатано. Еще вечером 22 августа Секретариат ЦК, собравшийся под руководством заместителя генсека В. Ивашко, но без О. Бакланова и О. Шенина, принял резолюцию с осуждением авантюры ГКЧП. Однако это запоздалое решение нигде не было опубликовано, так как все партийные газеты с 22 августа и по 4 сентября не выходили в свет. Ничего не сообщило о решении Секретариата ЦК КПСС и телевидение. Все ждали самого худшего. Ответственные работники аппарата просматривали документы в своих шкафах, столах и сейфах, уничтожая многие из них. Развязка приближалась. На Старой и Новой площадях собирались люди, настроенные явно враждебно. В Белом доме, где шло заседание Верховного Совета РСФСР, М. Горбачеву передали записку Геннадия Бурбулиса, написанную на каком-то клочке бумаги. В ней говорилось: «В ЦК КПСС идет форсированное уничтожение документов. Надо срочное распоряжение Генсека – временно приостановить деятельность здания ЦК КПСС. Лужков отключил электроэнергию. Силы для выполнения распоряжения Президента СССР – Генсека и Лужкова есть. Бурбулис». На этом же листке через весь текст Президент СССР и Генсек наложил размашистую резолюцию: «Согласен. М. Горбачев. 23 августа 1991 г.»[257]. Именно эта резолюция, а не указ Ельцина, в котором речь шла только о Компартии РСФСР, позволила начать разгром центральных органов КПСС. Еще в 3 часа дня органы КГБ и милиции, которые перешли теперь в подчинение В. Бакатину и В. Баранникову, завершили оцепление всех зданий ЦК КПСС, ЦК КП РСФСР, КПК, МГК, а также расположенных напротив зданий КГБ СССР. Но воинственная толпа увеличивалась, и это создавало, по мнению многих, опасность погромов. Между тем поведение толпы не было стихийным, и об этом с гордостью писал позднее в своих воспоминаниях Г. Попов. «Мы договорились с Бурбулисом, – свидетельствовал Г. Попов, – что он, как государственный секретарь, подпишет бумагу, разрешающую нам занять здания ЦК. Всей операцией руководили префект Центрального округа Александр Музыкантский, управляющий делами мэрии Василий Шахновский и депутат Моссовета майор Александр Соколов. Но ЦК – это гигантский узел связи со страной, комплекс подземных сооружений, все системы обороны, включая ядерную. Договорились с КГБ, что они останутся охранять подземный комплекс, а из здания уйдут. Далее надо было обеспечить безопасность уходящих из ЦК сотрудников. Конечно, они могли быть соучастниками путча, но это дело следствия и суда, никаких самосудов допустить нельзя. Но при этом нельзя допустить выноса каких-либо документов. Другими словами, обыск становился неизбежным. Я понимал историческое значение происходящего. Передо мной был телевизор: шел репортаж о встрече депутатов Верховного Совета России с Горбачевым. А сбоку стоял телефон, по которому поступала информация со Старой площади. Наконец каким-то усталым и будничным голосом мне сообщили: мы в здании ЦК. Охрана КГБ ушла. Персонал эвакуирован. Мы звоним из бывшей приемной Генерального секретаря ЦК КПСС. Свершилось. Я знал, что это удар. Изгнания из своих зданий КПСС уже не переживет»[258]. Гавриил Попов сравнивает захват зданий ЦК КПСС с взятием Зимнего дворца в 1917 г. «Дело сделано, – писал он. – Величайшее событие конца XX века свершилось. Эксперимент с государственным тоталитарным социализмом закончен. Я, как ученый-экономист, уже много лет назад пришел к выводу, что когда-то это обязательно произойдет. Но я не верил, что это произойдет при моей жизни и при моем участии. Но – произошло. Если я ничего больше не сделаю для России и ее народов, этот час взятия зданий ЦК оправдает, по крайней мере для меня самого, всю мою жизнь, все ее беды, ошибки, противоречия... Пусть я не состоялся как мэр. Но я состоялся как демократ»[259]. Историку трудно согласиться с подобного рода оценками, хотя какая-то доля истины в них, вероятно, есть.
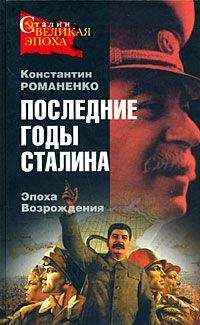
![Сергей Кремлев - Великий и оболганный Советский Союз [22 антимифа о Советской цивилизации]](/uploads/posts/books/183989/183989.jpg)