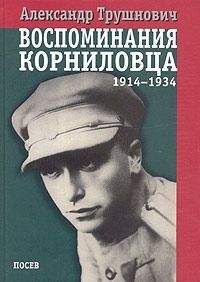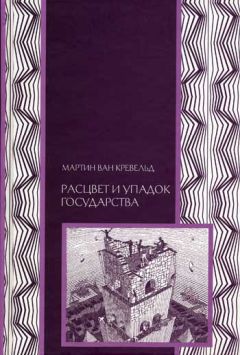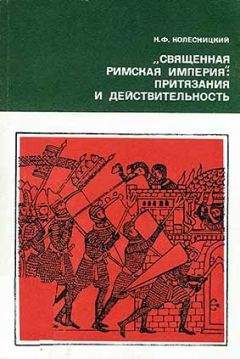Александр Трушнович - Воспоминания корниловца: 1914-1934
Наши солдаты жадно набрасываются на патроны, а главное, на обоймы, которые подходят к выданным нам в Одессе трофейным австрийским винтовкам. Довооружаемся в бою.
Поле битвы осталось за нами. Однако из 250 человек моей роты в строю осталось 117. Вечером мы спешно отступили: румыны, новоприобретенные союзники, отошли ровно настолько, насколько мы продвинулись вперед. Изморенные после боя, голодные, мучимые жаждой, мы отступали сомкнутым строем всю ночь, почти без отдыха. Параллельно с нами наступали неприятельские части. Под утро русская кавалерия прислала сообщение, что мы вышли из окружения.
Утром прошел сильный дождь. На возвышенности нас встретил командир корпуса генерал Зайончковский. Он снял фуражку и поклонился нам до земли. У бедняги отлегло от сердца, «австрийцы» показали свое лицо. К сожалению, после пятого боя, отступив за Дунай, уже немногие могли его показать: из дивизии в 16 000 штыков в строю осталось 2000.
Последний для меня бой был у Кокарджи. Среди ночи три полка неприятельской пехоты двинулись на наши окопы. Полевые охранения успели открыть огонь. Винтовочный и пулеметный огонь, сконцентрированный на небольшом пространстве, достиг такой силы, что казалось — вода кипит в котле. Утром неприятель отошел с большими потерями. На их стороне поднялся аэростат с наблюдателем, и вскоре заработали тяжелые германские пушки и мортиры Макензена. Били они систематически, упорно, не жалея снарядов.
На второй день я получил приказ: со своей ротой, в которой к этому времени осталось всего 70 человек, занять промежуток между первой и второй бригадами. По данным штаба, там ожидалась турецкая кавалерия. Мы укрылись в высокой траве. Через два часа вижу двух поспешно отходящих солдат. Посылаю вперед патруль и поднимаюсь сам, чтобы осмотреть поле. Приближается не турецкая кавалерия, а гораздо хуже: цепи неприятельской пехоты. Солдаты хотят отойти. Удерживаю их. Мы должны действовать самостоятельно.
Бегу на возвышенность выбрать место для арьергардной позиции. Нас заметили, и землю начали вскапывать снаряды. Невдалеке от меня поднялся черный столб, второй рядом. Тупая боль, правая нога одеревенела — я упал. Рота отходит в лощинку, и моих криков не слышат. Цепи противника приближаются медленно, но верно, как часовые стрелки. Ну что же! Не быть же повешенным в Любляне или Триесте! Вынимаю наган. Как все естественно и логично: рота отходит, смерть приближается!
На мгновенье грохот взрывов утих, и с последним усилием я позвал на помощь. Услыхали, и один солдат подбежал ко мне. Это был санитар, но не простой, а боснийский. Он всегда находился в цепи, ходил с нами в атаки, уносил раненых, подносил патроны. Он был одним из тех молчаливых героев, которыми сильна наша родина в трудные минуты. Он взвалил меня на спину и понес. Не успел он дойти до лощины, как неприятель послал нам вдогонку шрапнельный дождь. Меня обожгло в двух местах на спине, а мой босниец зашатался: его ранило ниже колена. Но тут подбежало трое наших, положили меня на винтовки и понесли.
Ночь охладила жаркую песчаную Добруджу. Двуколка движется по белой, залитой лунным светом дороге. Тихо в степи. Сколько звезд на небе… Рядом со мной лежит солдат. Он медленно умирает. Тихими стонами уходит жизнь из тела раненого. Снова поеду в Россию. Я, словенец, в сербской форме, на русской двуколке, с тремя ранами, имею на это право.
Постукивает поезд, стоны раненых ему не мешают. Ночь посреди Румынии. Фонарь за фонарем, белый халат врача-румына. Спрашиваю по-французски: «Будет ли перевязка? Повязка на спине съехала и сильные боли». Но врач-румын занят: он делает противостолбнячную прививку. Только своим, румынам.
Все-таки начинаю дремать. Будят крики в соседних отделениях: «В Россию! В Россию!» Что бы это значило? Открывается дверь, и человек с фонарем спрашивает: «Кто желает остаться в Румынии? Кто хочет ехать дальше, в Россию?» Наше отделение в один голос отвечает: «В Россию!»
Боевое крещение Добровольческая дивизия выдержала блестяще, но с громадными потерями. После такого количества пролитой крови добровольцы были вправе считать себя равноправными с другими союзными армиями. Тем более что вооружение дивизии могло быть намного лучше. Патроны нам выдали без обойм, пулеметы трофейные, частью неисправные. Довооружались в боях за счет отобранного у противника.
Пока дивизия была на фронте, сербское командование в тылу и местные русские военные власти выхлопотали у правительства разрешение на принудительную мобилизацию военнопленных южных славян. Это решение — результат тщеславия и неспособности разобраться в политических вопросах — нанесло принципу добровольности смертельный удар.
Вторая сербская дивизия состояла, за малыми исключениями, из мобилизованных. За несогласие в нее идти многих избивали. Были и убийства. Нам, подлинным добровольцам, с трудом добившимся зачисления в Русскую армию, были хорошо известны настроения в этой насильно мобилизованной дивизии, и мы знали, что на фронте появиться с ней нельзя. Да и не оттого ли мы подняли наше знамя, что нам было отвратительно насилие, применявшееся к славянам в Австро-Венгрии? Добровольцы резко протестовали против «принудительного добровольчества» и других ошибок командования корпуса. Но ошибки эти продолжались, а затем повторились уже в государственном масштабе в Королевстве Югославии, став питательной средой для всех разрушительных сил в этом государстве.
После Февральской революции 1917 года из 40 000 офицеров и солдат в корпусе осталось не более 7000. Часть из оставшихся в России добровольцев пошла в Белую, часть в Красную армию. Другие разбрелись по России и впоследствии вернулись домой. Славяне-офицеры, боровшиеся в южной Добровольческой армии, почти все пали. Многие отдали свои молодые жизни в армии адмирала Колчака. Да будет им вечная память! Королевская Югославия о них не вспомнила ни разу.
Екатеринослав
Сколько ни есть раненых на свете, все они радовались, попадая из фронтовой обстановки в теплые, уютные лазареты и больницы, вдали от грязи и опасностей. Впрочем, в гражданской войне могли не только ранить в бою, но и добить на больничной койке… В Екатеринославе, в лазарете Красного Креста, созданном немцами-меннонитами (протестантское течение XVI в., проповедующее смирение и непротивление злу насилием), нам было несказанно хорошо.[3] Я лежал рядом с моим другом, подпоручиком Игнатом Францем, хорватом из Загреба.[4]
В светлой памяти о русском прошлом навсегда останутся учреждения, созданные для помощи раненым. В России была самая совершенная организация медицины — земская. И в России была русская женщина. Русское искусство, русская литература воздвигли русской женщине величественный памятник — могу ли я что-либо к этому прибавить? Только познакомившись с русской женщиной, я начал проникать в тайники русского бытия, понимать, что отделяет Россию от Запада, почему так поддаются русскому обаянию иностранцы, побывавшие в России. Больше половины моей сознательной жизни я видел благородный облик русской женщины, несущей все тяготы жизни наравне с мужчиной, а иногда и лучше его. Я видел ее на поле, сестрой милосердия в больнице, за книгой, на фабрике, в боевой цепи, в детской, в ссылке, в колхозе, в тюрьме, в восстаниях против осквернителей русской земли.
В осенние дни 1916 года, когда бойцы залечивали раны в теплых палатах, а за окнами шел снег, сестры проходили мимо нас в белых косынках, строгие как монашки, но душевные, преданные своему делу. Сколько их погибло на фронте, в эпидемиях! Вспомнит ли когда-нибудь Россия об их подвигах? С тех пор прошло 18 лет. И вспоминают те светлые дни лежавший в лазарете доброволец и русская женщина, носившая белую сестринскую косынку и шедшая рядом с ним в годы кровавой Гражданской войны, голода и холода, страданий и ужасов, отчаяний и надежд. Их двенадцатилетний сын, рожденный в те страшные годы, слушает их рассказы о России. И мысли их там, в прекрасной стране, где сегодня над землей стоит непрекращающийся стон.
Часть II. РОССИЯ В ОГНЕ
Корнилов и корниловцы
Май 1917 года. Мы в Екатеринославе, после выздоровления. Нас, добровольцев, человек шестьдесят. Ждем отправки на фронт. Все мы хотим к генералу Корнилову. Его мы любим и уважаем больше всех, видим в нем сильного человека, храброго, прекрасного генерала славянской ориентации, честного, не запятнанного в прошлом, не по родовитости, а своей волей и талантом выдвинувшегося из семьи простого урядника. Долго ждем решения. Голодаем. Подкармливают немного сестры из госпиталя. Довольствие нам почему-то не положено. Но это не так важно. Мы мыслями в Русской армии, она нуждается в нашей помощи.
Русская армия нуждается в помощи нескольких десятков офицеров? Да, армия, которая — начни она наступление в начале марта 1917 года — раздавила бы противника, сегодня нуждается в помощи каждого честного русского, каждого честного славянина.