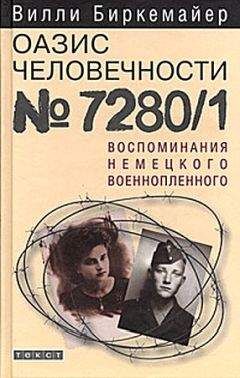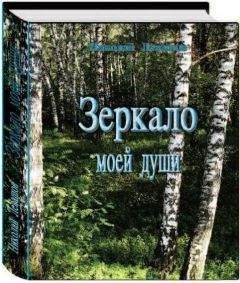Вилли Брандт - Воспоминания
В шестидесятые годы мои советские собеседники ужасались по поводу «культурной революции». Посол в ГДР Абрасимов взывал в 1966 году к общим ценностям европейской культуры. Его коллега в Бонне Царапкин пытался найти у нас понимание того, что Москва из-за Дальнего Востока должна иметь безопасный тыл в Европе. Тито, вскоре после этого ставший жертвой старческих иллюзий в отношении Китая, тоже говорил, что он очень озабочен тем, что пекинское руководство рассчитывает на новую мировую войну. Бен-Гурион, глава израильского правительства, питал почти такие же надежды, как Аденауэр. Во время «working funeral» первого федерального канцлера он дал мне понять, что его интересует только будущее ЕЭС и Китая.
Хрущев, как нам стало известно позже, кипел от ярости по поводу «азиатской хитрости, вероломства, мстительности и лжи» Мао. «От этих китайцев никак не добьешься ясного ответа», — жаловался он. В устах Брежнева (в сентябре 1971 года в Ореанде) это звучало так же, но только подробнее: «Европейцу очень трудно понять китайцев». Хозяин Кремля сказал буквально следующее: «Мы с вами знаем, что эти стены белые. Но если бы сюда явился китаец, он бы настаивал на том, что они черные». Политика Китая «в основе своей антисоветская, шовинистическая и националистическая»: кажется, он еще сказал «кровожадная». В такой ситуации царь, дескать, объявил бы войну. Он же стремится к улучшению отношений; в ближайшее время Китай, мол, не будет представлять военную опасность.
Для меня изложение советской позиции имело особенно большое значение, потому что незадолго до этого, летом 1971 года, Никсон известил о своем предстоящем визите в Пекин. По этому поводу Брежнев сказал, что он-де не имеет ничего против отношений других государств с Китаем. Никсону, если он туда поедет, будет нелегко. В начале того лета американский президент сказал мне, что он хорошо понимает, почему отношения с Советским Союзом имеют для нас приоритетное значение. Он бы на нашем месте поступил так же. Чтобы не возникло недоразумений, он пояснил: «Для нас большая игра — это игра с Советами». Я дал ему понять, что знаком с картой мира и не дам ни левым, ни правым маоистам заставить меня поставить не на ту карту. Если встанет вопрос о нормализации, мы своевременно сообщим об этом Москве и Вашингтону, как, разумеется, Индии и Японии.
В октябре 1972 года наши отношения благодаря поездке Шееля в Пекин были нормализованы. Когда Брежнев весной следующего года был в Бонне, он, проявляя какое-то нервное любопытство, все же спросил во время небольшой прогулки в присутствии только переводчика, собираюсь ли я нанести визит Мао. Тогда он мной еще, а потом уже не планировался. Однако я прекрасно понимал, какое значение имеет Китай не только в общем и в перспективе, но и в данной ситуации. С конца 1971 года Китайская Народная Республика являлась одной из стран, «тасовавших карты» в ООН, и ее представитель сидел в Совете Безопасности. Она проявляла также активность в Восточном Берлине и в других столицах стран Варшавского пакта, причем тенденция была однозначна: помешать улучшению наших отношений с Советским Союзом.
Во время моего визита в 1984 году Ху Яобан разъяснил мне, почему Китай заинтересован в сохранении мира во всем мире и (в отличие от того, что было при Мао) в поддержании «равной дистанции» к Вашингтону и к Москве. Интерес к Европе и ее стремлению к единству был огромный, как, впрочем, и интерес к европейской социал-демократии. Намечалась нормализация отношений с Москвой. Только что заключили соглашение с англичанами о возвращении КНР богатого Гонконга. Начиналось установление культурных, экономических и туристических контактов с Тайванем, который еще недавно считался как бы объявленным вне закона.
В правительственной резиденции для официальных гостей я встретился с Дэн Сяопином, невысоким, полным энергии человеком, который, однако, уже не совсем ясно произносил отдельные слова. Он определял основные направления политики, числясь официально председателем комиссии советников при ЦК и председательствуя в могущественном военном комитете. Я цитирую из разговора, который мы вели за столом, сервированным посудой кайзеровских времен:
«Мне поручено дать в Вашу честь обед… Мне уже восемьдесят лет. Моя голова работает уже не так хорошо. Но Аденауэр, когда он стал канцлером, тоже был довольно старым человеком».
«Ваш визит к нам слишком краток. Вам нужно приезжать почаще. Как у Вас со временем?.. Для нас Вы в любое время желанный гость… Только побывав в Китае, начнешь его понимать. Я хотел бы, чтобы Вы основательно познакомились с Китаем».
«Свой путь к коммунизму я нашел на французских фабриках. В 1926 году я ехал из Парижа через Франкфурт и Берлин в Москву. В Берлине я пробыл одну неделю. Там все было очень аккуратно, правда, мне не хватало парижских кафе».
«Китай — еще относительно отсталая страна. Наши проблемы — это технология и квалифицированные кадры. Своими силами мы с этим не справимся. При изоляции нельзя развиваться. Отсюда наша политика открытости для внешнего мира».
«У нас много старых членов партии. Многие из них состоят в ней несколько десятилетий. В качестве переходной системы мы создали комиссию советников. Однако старые функционеры уступают место более молодым. Вместе с тем мы предоставляем в их распоряжение свою мудрость… Речь идет о том, чтобы путем передачи мудрости и опыта придать новому поколению уверенность и стабильность».
В заключение, после того как я сказал: «Вероятно, соответствует действительности, что Китай не хочет, чтобы его использовали, как карту в игре, так же, как и я не хочу разыгрывать ее сам во вред другим», — он заметил: «На свете все еще есть игроки. Будущее покажет, что в этом правильно, а что нет».
Кому в таких случаях не ясно, что многое из того, что происходит сегодня, становится понятным лишь на фоне старых религиозных и философских систем? В начале 1988 года на конгрессе в Мадриде приехавший из Китая старый человек подвергся дружескому допросу: «Можно ли рассчитывать на то, что уже при жизни следующего поколения значительно поднимется благосостояние?» Ответ: «Конечно, лет через сто мы достигнем некоторого прогресса».
Прежде чем пригласить меня к столу, Дэн завел речь об одной беседе между Аденауэром и Черчиллем, в которой фигурировали гунны. Под ними, вероятно, подразумевались китайцы? Я перевел разговор на другую тему, указав на то, что «старик» связывал с полезной ролью Китая большие надежды. Если бы тема гуннов была затронута несколько лет спустя, я нашел бы более подходящий ответ. Пока студенты и рабочие, требовавшие отставки ужасного старца, ничего не добились. Человек, о котором в мире создалось столь романтичное представление, снова стал насаждать террор и страх. Он еще раз осуществил то, на что никогда не смотрел иначе, назвав теперь смертную казнь воспитательной функцией. И мир в ужасе отвернулся.
Улоф Пальме и дело безопасности
Это было поздним вечером 28 февраля 1986 года. Я находился в Любеке, где мне на следующее утро предстояло выступить в связи с выборами в городской парламент. Из Стокгольма по телефону пришло известие, в которое трудно было поверить: Улофа застрелили прямо на улице, когда он с женой возвращался из кино. О том, кто это сделал, гадали еще годы спустя. Кого мы потеряли, осознавали многие далеко за пределами Швеции, и не только среди тех, кто был ему близок по политическим убеждениям. У меня было такое чувство, будто ушел из жизни любимый младший брат.
Швеция потеряла яркого политика высокого международного класса. Жаждущая мира и справедливости планета стала на одного великого пророка беднее. В моем первом, довольно слабом комментарии говорилось, что я скорблю о потере близкого друга, с которым я за несколько дней до этого советовался по телефону, какие шаги следует предпринять, чтобы положить конец гонке вооружений. «Вместе мы пытались сделать многое из того, что теперь предстоит продолжать без него, но в его духе».
Две недели спустя, когда мы вместе со многими высокопоставленными представителями с Севера и Юга, Запада и Востока стояли в стокгольмской ратуше у его гроба, я уже не мог называть его только «государственным деятелем». Это было бы слишком узким определением, которое не включало в себя ни его пророческую силу, ни чрезвычайную целостность его характера. Разве не показали именно эти две недели, как остро молодые люди далеко за пределами Швеции ощущали то, что сделало Пальме таким необычным и таким независимым политическим лидером? В моей памяти он остался большим ребенком, каким он был в свои почти шестьдесят лет: «Он без устали работал, но, несмотря на это, он много делал для расширения своего кругозора и проявлял живой интерес к событиям в культурной жизни. Он умел не только говорить, но и слушать. Любил он и посмеяться вместе с нами».