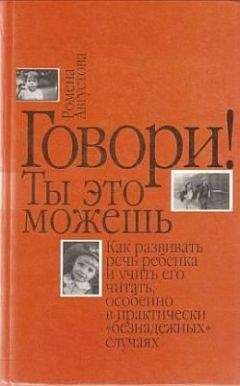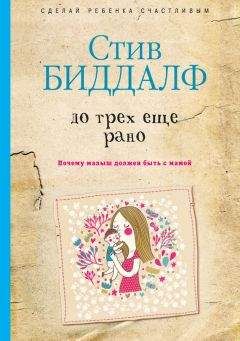Эрик Вейнер - География гениальности: Где и почему рождаются великие идеи
Shilpit? Это слово поставило в тупик не только меня, но и спелл-чекер, что случается нечасто. На выручку пришел словарь Merriam-Webster: передо мной старое шотландское слово, означающее «худой и истощенный с виду».
Я схожу с поезда и без труда вычисляю Броуди в толпе. Да, точно: shilpit. Он выводит меня с суматошного вокзала со спокойной уверенностью человека, который имеет глубокую связь с городом и впитал его сущность. Пока мы идем, Броуди объясняет: он родом из Эдинбурга, но пленился Глазго с его заводским шармом и сейчас не променял бы его ни на один другой город.
– Отсюда меня динамитом не выгонишь, – говорит он, и я не сомневаюсь в его словах.
Невзирая на цветистые речи, Броуди – человек мягкий и, по-моему, застенчивый. Мы пересекаем большую площадь и минуем статую Джеймса Уатта – любимого сына Глазго. На его голове восседает голубь, и, судя по белым пятнам на мраморе, он не первым туда уселся. Бедный Джеймс Уатт! Очень по-шотландски: никакого уважения.
Броуди сообщает, что остановил выбор на итальянском ресторане. Я улыбаюсь и уже не в первый раз мысленно говорю спасибо за то, что к числу многочисленных открытий Шотландии принадлежат кухни других стран. Мы делаем заказ (меня прельстили фузилли в оливковом масле и кьянти) и погружаемся в тему. Что же происходило в этих загадочных клубах? И какую роль они сыграли в шотландском Просвещении?
Броуди не отвечает на вопрос напрямую (это не в шотландском духе). Он предлагает вспомнить, о какой эпохе идет речь. На заре XVIII века шотландцы погрузились в сильнейший культурный кризис. Их страну только что аннексировала Англия. Это деморализовало, но вместе с тем шотландская политика перестала быть значимым фактором. Интеллектуалы бросили беспокоиться, что окажутся не на той стороне, ибо никаких сторон больше не было. Сиди себе и занимайся глобальными вопросами. Иногда и политика может стимулировать творческое движение, как было в 1960-х гг., – но подчас ничто так не освобождает, как политический вакуум.
Старый порядок канул в Лету, и – сообщает Броуди, когда приносят пасту, – «внезапно пришлось думать своей головой». Шотландцы воспользовались случаем, однако и здесь все вывернули наизнанку. Да, они думали своей головой, но… совместно: за закрытыми дверями клуба «Устрица» и сотен ему подобных.
В этих собраниях удивительно умение соединить паб с научным семинаром, а дружескую выпивку – с интеллектуальной строгостью. Для выпивки существовал строгий протокол. Сначала хозяин выпивал за каждого гостя, потом каждый гость за хозяина, потом гости друг за друга. Проведите подсчет – и увидите, что вино лилось рекой. Отсюда возникает неудобный, но неизбежный вопрос: а не служили ли клубы лишь предлогом напиться в стельку? И не было ли шотландское Просвещение больше «просвещением» в области скотча?
Нет, отвечает Броуди. Это старое обвинение, которое чаще всего звучит по южную сторону Адрианова вала[51], ошибочно и несправедливо.
– Почему же?
– Там не пили скотч. Пили кларет, – объясняет он с такой интонацией, словно здесь есть большая разница. А увидев, что его довод не показался мне убедительным, добавляет: – И потом, для выпивки имелись практические причины.
Практичная выпивка? Это что-то новенькое. Интересно послушать.
– Вода была неважной. Дольше жили те, кто пили кларет.
Таким образом, шотландцы, homo practicus, пили кларет бочками. Коммерсанты пили во время деловых встреч. Пили и судьи, зачастую приходя подогретыми уже на первое судебное заседание. На вечеринках гости делились на «людей двух бутылок» и «людей трех бутылок» в зависимости от того, сколько вина могли употребить. (По-видимому, «людей одной бутылки» на обед не звали вообще.)
Шотландцы могли напиться, но дураками не были. Подобно своим героям, древним грекам, они знали: небольшая порция алкоголя способствует творчеству, но, если переборщить, перестанешь держаться на ногах. Поэтому, как и греки, они пили вино разбавленное, гораздо менее крепкое, чем мы. Кроме того, замечает Броуди, выпивка на сборищах была лишь кружным путем, пусть и приятным, к подлинной цели.
– Какой именно? – интересуюсь я.
– Взаимной церебральной стимуляции.
На миг я перестаю жевать. Звучит интересно. Да и впечатление производит: тут вам и эрудиция, и оригинальность. Одним словом, комбинация выигрышная и редкая.
– А в чем состояла взаимная церебральная стимуляция?
– Люди подстегивали друг друга интеллектуально. Один человек – скажем, бизнесмен – высказывал мысль. А кто-то из совсем другой профессии развивал ее на свой лад и в ином направлении.
Поддевая вилкой макаронину, я ловлю себя на двух мыслях. Во-первых, мы с Броуди не только обсуждаем взаимную церебральную стимуляцию, но и занимаемся ею. Ни дать ни взять завсегдатаи клубов. Во-вторых, золотой век Эдинбурга – да и любой золотой век – был междисциплинарным. Все творческие прорывы стали результатом, выражаясь словами Артура Кёстлера, «взаимообогащения дисциплин». Взять хотя бы Джеймса Геттона. Прежде чем погрузиться в геологию, он изучал медицину – специализировался на системе кровообращения. А впоследствии применил эти принципы к глобальной «системе кровообращения» – нашей планете. Опять-таки, гения делает гением не знание и не интеллект, а способность связывать разные направления мысли. Философы морали (например, Юм и Смит) поступали так регулярно, охватывая взором огромные интеллектуальные просторы: международные отношения, история, религия, эстетика, политэкономия, брак, семья, этика. А сейчас представители этих дисциплин даже не общаются между собой, а если и общаются, то не в профессиональном ключе.
Пустой болтовни шотландские гении избегали. Броуди объясняет:
– Беседа не была развлечением. Она была содержательной и конструктивной, имела ясную логическую структуру и помогала к чему-то прийти.
– Но ведь люди не всегда знали, к чему надо прийти?
– Не всегда. Приходилось делать шаг в неизвестность. Пикассо однажды спросили, знает ли он, как будет выглядеть начатая картина. Он ответил: «Конечно, не знаю. Если бы знал, я бы не стал ее рисовать».
Как показывают исследования, творческие люди обладают повышенной терпимостью к неопределенности. По-моему, это касается и городов, в которых расцветает гений. Афины, Флоренция и Эдинбург были насыщены атмосферой, которая не только мирилась с неопределенностью, но и благоприятствовала ей.
Мысленно я переношусь из Глазго в Калифорнию, в тесный кабинет Дина Симонтона. Тихо играет классическая музыка, а он рассказывает о «слепой вариации» и «избирательном сохранении». Эта теория творчества, которую Симонтон разрабатывал в течение 25 лет, имеет прямое отношение к эдинбургским гениям. По мнению Симонтона, творческий гений подразумевает «сверхтекучесть и поиск с возвратом». Сверхтекучесть – это готовность исследовать догадки, которые вполне могут завести в тупик. Поиск с возвратом – это умение вернуться к тупикам и изучить их вторично. Как мы уже сказали, гении не застрахованы от ошибок. И, если уж на то пошло, они ошибаются даже чаще. Но главное – они могут точно вспомнить, где и почему ошиблись. Психологи называют эти показатели «индексами разрушения». Это своего рода мысленные закладки, и гении методично и усердно собирают их.
– Но будьте осторожны! – Резкий голос Броуди вырывает меня из задумчивости.
Я вздрагиваю: уж не совершил ли я какую-то оплошность, уйдя в свои мысли? Но нет, собеседник лишь советует не принимать веселую атмосферу клубов за всеядность.
– Если идея была полным вздором, от нее камня на камне не оставляли. Разносили в пух и прах, – констатирует Броуди и энергично поддевает лингуини, словно подчеркивая свои слова.
Такие интеллектуальные дуэли «позволяют выяснить, что мы думаем об идеях друг друга», объясняет он. Люди реагируют на наши мысли, а мы – на их реакцию. «Нас опровергают – мы вносим коррективы». Поединки умов были не только развлечением: так шотландцы совершенствовали свои концепции.
Интеллектуальные фейерверки полыхали не только в тавернах и клубах, но и в классных комнатах. Это удивительно: как я понял во Флоренции, формальное образование и творчество – вещи «из разной оперы». Если уж на то пошло, жесткая учебная программа даже сковывает фантазию.
Однако в Эдинбурге все было иначе. Учебные аудитории не удушали, а будили мысль. Но почему? Что сделало шотландские университеты фабриками гениев, а не убийцами творчества, как бывает сплошь и рядом?
Быть может, высказываю я догадку, им удавалось очень хорошо передавать знания?
Не без этого, отвечает Броуди. Однако наличие знаний не гарантирует гениальность и даже может мешать. Гении, которых мы возносим на пьедестал почета, не всегда были самыми знающими профессионалами. Эйнштейн имел больше пробелов в физике, чем многие из его коллег, и отнюдь не был ходячей энциклопедией. Но он имел неординарный взгляд на вещи. Если творческий гений отличается способностью устанавливать неожиданные и существенные взаимосвязи, то ключевую роль играет ширина, а не глубина знаний.