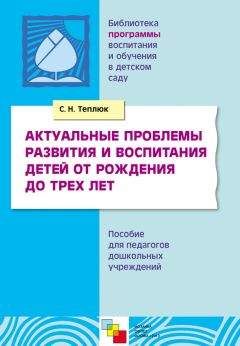Джеймс Скотт - Искусство быть неподвластным. Aнархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии
Если предложенная мной политическая перспектива и имеет смысл, то потому что радикально децентрирует любые сущностные трактовки «бирманства», «сиамства» и, коли на то пошло, «ханьства»[180]. Идентичность в центре государства была политическим проектом, разработанным, чтобы сплавить в единое целое собранные здесь разнообразные народы. Крепостные местных феодалов, рабы, захваченные в ходе военных действий или набегов работорговцев, земледельцы и купцы, прельщенные сельскохозяйственными и коммерческими возможностями, – все они формировали говорящее на множестве языков население. Наградой за инкорпорирование было то, что ассимиляция, браки между представителями разных групп и народностей и мобильность вследствие легко проницаемых социальных барьеров были относительно просты. Идентичность в подобных условиях оказывалась в большей степени результатом исполнения некоей роли, чем генеалогии[181]. Всякое рисовое государство, которое возникло и кануло в небытие в классический период, представляло собой результат действия принципа «карьера – для талантов». Культура каждого рисового государства со временем институционализировалась, и различия внутри нее были обусловлены тем заимствованным культурным и человеческим материалом, с которым ей пришлось работать. Если доколониальные царские дворы и были притягательны в культурном отношении, то именно благодаря своей способности поглощать мигрантов и пленников и через два или три поколения вплавлять их практики во всеохватывающую бирманскую или тайскую культурную амальгаму. Беглый взгляд на процесс культурного амальгамирования в тайском рисовом государстве, малайском регионе и классической Бирме заставит нас еще выше оценить способность государства рабочей силы к гибридизации[182].
Население центральной равнины, которая позже станет Сиамом, в XIII веке представляло собой сложнейшее смешение монов, кхмеров и тайцев, которые, в свою очередь, представляли собой «этничность-в-процессе-превращения» в подданных Сиама[183]. Виктор Либерман утверждает, что к середине XV века, в период Аюттхаи, в рамках управленческой элиты (munnai) возникла самобытная «сиамская» культура, но, похоже, только здесь. Хотя придворная культура базировалась на кхмерских и палийских текстах, простой народ, как его описал португалец Томе Пиреш в 1545 году, говорил на монских, а не тайских диалектах, и обрезал волосы, как моны в Пегу. Практики формирования государства рабочей силы отчетливо просматривались и в конце XVII столетия, когда, как утверждается, более трети жителей центрального Сиама были «потомками иностранцев, в основном пленников лао и монов»[184]. В начале XIX века королевский двор удвоил свои усилия, чтобы восстановить массовые потери населения в ходе бирманских войн. В результате «в общей сложности численность лао, монов, кхмеров, бирманцев и малайцев почти сравнялась с количеством тех, кто идентифицировал себя с подданными Сиама в центральной части страны. Крестьянские подразделения из жителей Пхуана и представителей народов лао, чам и кхмеров сформировали костяк регулярной армии и флота вокруг Бангкока. На плато Корат после мятежа короля Анувонга в 1827 году было расселено так много депортированных лао, что их количество вполне могло сравниться с общим числом говорящих на сиамском языке в королевстве»[185].
То, что характеризует бассейн реки Чао Прая, верно и для целого архипелага мелких тайских/шанских рисовых государств, разбросанных тут и там все дальше на север в горы. Общее мнение состоит в том, что мелкие тайские/шанские государства были политико-военным изобретением – в терминологии Кондоминаса systeme a emboitement, – в котором тайцев было достаточно мало. Эта точка зрения согласуется со свидетельствами, что и бирманцев было не так много – они сформировали первую, военную, элиту, обладавшую опытом и навыками государственного строительства. То, что завоевателей было немного, но они в конечном счете стали правителями, не должно удивлять тех, кто знаком с британской историей, поскольку подчинившая себе после 1066 года Британию норманнская элита состояла не более чем из двух тысяч семей[186]. Число тайских/шанских завоевателей росло благодаря таланту заключать союзы, поглощать, адаптировать и сочетать самые противоположные воззрения вошедших в создававшееся государство народов, что предполагало инкорпорирование остатков прежде существовавших политических систем (монов, лава, кхмеров), но прежде всего – поглощение огромного числа жителей высокогорий. Кондоминас считает, что захваченные в плен горные жители сначала становились крепостными, но затем, с течением времени, превращались в тайских простолюдинов, получавших право владеть рисовым полем. Те, кто был достаточно удачлив или искусен, чтобы захватить муанг, скорее всего, принимали тайское благородное имя, таким образом ретроспективно приводя свою генеалогию в соответствие с личными достижениями[187]. Большая часть населения в подобных государствах состояла из нетайских народов, а многие из тех, кто стал тайцем и буддистом, продолжали говорить на своем языке и сохранять свои обычаи[188]. Хотя сегодня принято считать, что качины стали шанами, качинский аспирант, попытавшийся доказать, что большинство шанов когда-то были качинцами, был недалек от истины[189]. Эдмунд Лич убежден, что шанское общество было не столько «„готовой“ культурой, распространившейся с юго-запада Китая, сколько сложившейся в местных условиях в результате экономического взаимодействия небольших военных колоний с коренными жителями гор в течение длительного времени». Он добавляет: «Существует множество доказательств, подтверждающих, что огромные группы людей, которых мы сегодня знаем как шанов, являются потомками горных племен, не так давно очень сложными путями ассимилированных буддийско-шанской культурой»[190]. Будучи сконструированы по тем же принципам, но в меньших масштабах, рисовые государства отличались разнообразием в этническом отношении, были экономически открыты и способны к культурной ассимиляции. В любом случае шанская идентичность связана с рисоводством и предполагает принятие подданства шанского государства[191]. Посредством поливного рисоводства «шанскость» и государственность тесно взаимосвязаны. Именно поливное рисоводство гарантирует территориальное закрепление оседлого населения, что является основой военного превосходства, получения доступа к излишкам продовольствия и политической иерархии[192]. Кочевое земледелие, наоборот, предполагает нешанскую идентичность и фактически по определению проживание вдали от государства[193].
Бирманские государства, возникавшие с начала XI века на высокогорьях Бирмы, предопределили контуры классического аграрного государства рабочей силы. Их агроэкологическое размещение (как и в случае Красной реки во Вьетнаме), вероятно, было наиболее благоприятным для концентрации человеческих ресурсов и зернового производства. Центр государственного строительства, который должна была контролировать каждая правящая династия, состоял из шести районов, по четырем из которых (Кьяуксе, Минбу, Шуэбо и Мандалай) проходили постоянные водные потоки, обеспечивавшие экстенсивное круглогодичное орошение. Кьяуксе, само название которого содержит отсылку к поливному рисоводству, был самым богатым из районов. Уже в XII веке здесь были территории, на которых ежегодно выращивали по три урожая[194]. По оценкам Либермана, к XI веку в радиусе от восьмидесяти до ста миль от царского двора проживало несколько сотен тысяч человек[195].
Как и тайские королевства, Паган был политическим инструментом концентрации рабочей силы и зернового производства. В этом качестве он радушно принимал или захватывал поселенцев везде, где мог их найти, и привязывал их к царскому двору в качестве подданных. Как позволяют предположить хроники, в середине XIII века Паган был этнически мозаичен и, помимо монов, включал в себя бирманцев, кадусов, сгавов, канианов, палаунгов, вас и шанов[196]. Некоторые из них были привлечены возможностями, которые предлагала растущая империя, для других переселение означало «добровольную ассимиляцию билингвалов, жаждущих обладать общей идентичностью с имперской элитой»[197]. Впрочем, есть небольшие сомнения, что внушительная часть населения, в частности моны, были «призом» грабительских набегов, военных кампаний и насильственных переселений.
Удержание воедино государственного центра подобных масштабов, учитывая демографию того периода, было сложным предприятием. Открытые границы в сочетании с тяготами жизни внутри государства (налоги, воинские повинности, рабство) обусловливали необходимость постоянного восполнения неизбежной утечки населения посредством военных кампаний, чтобы заполучить пленников, и принудительной миграции. Если центру государства, будучи единожды созданным, удавалось сохраниться демографически до середины XIII века, то массовый исход населения после – возможно, потому что рисовая долина предлагала огромную концентрацию добычи монгольским завоевателям – оказывался столь катастрофическим, что империя распадалась.