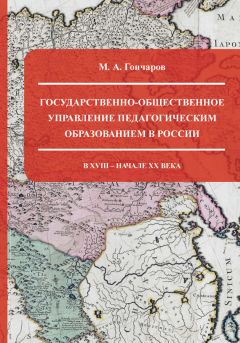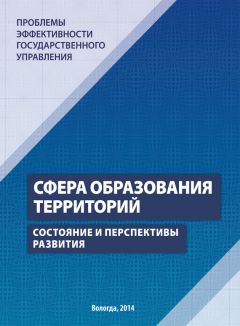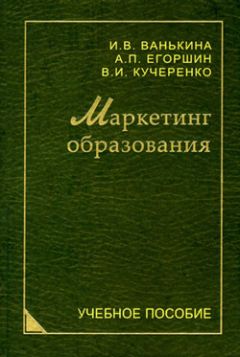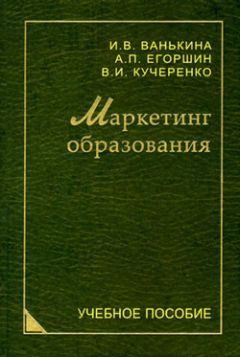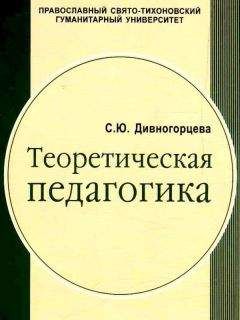Марсель Гране - Китайская цивилизация
Согласно учению легендарного основоположника даосизма понятие места, неразрывно связанное с пустотой, означает ограниченную пустоту и его сущностью становится вместимость, емкость, вмещающая пустота, приобретающая бытийный характер, ибо вмещение совпадает с бытием: только то может быть, что вмещает.
Любая наличествующая вещь, в том числе и образ, есть прежде всего такое место в качестве ограниченной пустоты или формы. Если понимать под генеалогическим местом Чжуан Цзян именно отношение, то оно есть промежуток между двумя соотносящимися членами, пустая емкость – форма, место их взаимного соприкосновения и самоопределения. Наряду с этим, согласно Лаоцзы, человек сам по себе, в своей автономии не имеет никакой ценности, и, чтобы определиться, быть собой, ему надо от такой обособленности отойти и, находясь на границе, на переходе между собой и другими людьми, став как бы стенкой и дном порожней емкости, их вместить.
Аналогична структура образа Чжуан Цзян. В рамках своих отношений с отцом и супругом она их тоже, по сути, «вмещает» в себя: наподобие отца она «впитывает» и «питает» природу родного края, а от супруга она преисполняется его мужской властью. Старший брат служит ослабленным вариантом ее отношений с отцом, сестер же образ Чжуан Цзян представляет как женская коллективная личность. Поэтому она и живописуется песней в основном не в собственно своем, а в отраженном виде. Но она не переходит полностью на позицию своих родственников и мужа, а находится на самом переходе, на пороге границы, как бы в качестве стенки и дна вмещающей их пустой емкости. Собственно ей принадлежит только пустота и граница, и ее совершенно невозможно представить без того, с кем или с чем она в данной ситуации соотносится. Именно граница, очерчивающая ее в динамике меняющихся ситуаций, и составляет неизменную основу, единство этого пограничного, лиминального образа.
Таким образом, «Китайская цивилизация» Гране оказывается весьма конструктивной для понимания образа женской красоты в «Книге песен». Но это, конечно, не просто отдельный, частный пример. Ведь в образности «Ши цзин», парадигматической антологии для традиционного Китая, заключается в некотором смысле целая программа развертывания многих особенностей китайской культуры. Чжуан Цзян представляет собой образ коллективной личности, но в ее структурности находит свой образец и вскоре заявившая о себе, уже не столь коллективная, более индивидуальная личность мыслителя, какой она открывается в учении того же Лаоцы или Конфуция. Получается, что для понимания древнекитайской философии книга Гране представляет не менее значимый культурологический контекст, чем для «Книги песен». И многие другие сферы деятельности в Древнем Китае, которые французский синолог, как и философию, специально не рассматривает, – религия, литература, искусство и т. д. – обретают в ней для себя солидную контекстуальную основу.
Чисто информативная сторона в книге Гране минимальна, в ней на первом плане знание творческое, заключающее в себе стимул к научному поиску. Вместе с тем такое знание, взятое и в своей сугубой фактичности, тоже до настоящего времени сохраняет немалую ценность. Ведь Гране был и остается одним из самых выдающихся знатоков древнекитайских первоисточников во всей истории западной синологии. Для примера можно сослаться на то, как французский синолог использует конфуцианскую каноническую книгу «Записки о ритуалах», производящую впечатление несколько сухой и невыразительной. Под его пером она теми же известными нам текстами предстает в качестве живых, очень убедительных картин древнекитайской действительности. Чего стоит только один воссозданный им всецело из источников «балет» обрядовой стрельбы из лука! То же самое происходит при его обращении к другим известным письменным памятникам Древнего Китая, среди которых «Книга песен» занимает, конечно, особое место. Здесь из строк архаической поэзии он воссоздает зримые факты древнекитайской жизни. Книга Гране не только концептуально и с методической точки зрения, но и своей фактурой составляет одну из составляющих обязательной основы современной культурологической науки о Китае.
Несмотря на свой достаточно преклонный научный возраст – с момента первой публикации книги прошло уже более 70 лет, – «Китайская цивилизация» оказалась весьма жизнестойкой перед требованиями времени. Можно понять французов, дважды ее переиздававших: в 1968 и 1994 гг. Книга Гране ценна не только глубиной раскрытия своего предмета, но и сама по себе – как памятник оригинальной творческой мысли в синологии. К ней допустимо относиться по-разному, в чем-то ее принимать или нет, но не учитывать, обращаясь к современной синологии, невозможно. Только так и стоит подходить к имеющимся в ней лакунам и недостаткам.
Очевиднейшим из таких лакун в книге Гране стал древнейший период китайской цивилизации, называемый иногда доисторическим и отнесенный французским синологом ко всему китайскому прошлому до VIII в. до н. э., то есть до начала регулярного летописания в Китае. Он дает только его самый общий, следующий традиционной аборигенной историографии обзор без какой-либо дальнейшей попытки научной реконструкции, считая последнюю, по состоянию науки того времени, невозможной. С точки зрения Гране, сообщаемое об этом периоде в древнекитайских письменных источниках было в наибольшей степени уязвимо для позднейших искажений и нуждается в серьезной доказательной проверке. Такой проверкой могла и может стать археология. Но Гране к ней совсем не обращается, хотя отдельные примеры ее использования встречаются у некоторых его ближайших предшественников и современников в исследовании различных аспектов древнекитайской культуры. Причину такой позиции французского синолога вполне резонно объясняют состоянием самой археологической науки в Китае того времени. Ведь начало ее «подлинного развития» приходится только на 20‑е гг. прошлого века, то есть как раз на тот период, когда Гране создавал и заканчивал свою книгу.
В данном случае сложилась несколько парадоксальная ситуация: с одной стороны, уже сформировывалась его научная концепция относительно предмета исследования, а с другой – впервые на научной основе археология в Китае начинала давать многообещающие результаты. Ученики и последователи Гране во Франции давно пишут о его особой научной взыскательности к себе. Он предпочел не использовать данные пусть и многообещающих, но первых, еще как следует не осмысленных, дискуссионных результатов археологических раскопок, требующих дальнейшего продолжения, оставив вопрос о древнейшем периоде открытым. Эту свою позицию он сам и выражает в книге, не только ни в коей мере не отрицая, но подчеркивая важность археологии для более полного и глубокого исследования.
А за последние 70 с лишним лет, особенно со второй половины XX в., китайская археология добилась впечатляющих успехов, вносящих в раннюю историю Китая гораздо большую, чем было при Гране, ясность. Теперь уже никто не сомневается, что там были и палеолит, и неолит; углубляется знание этих культур; в результате обнаружения на территории Китая останков различного вида архантропов, или пралюдей, активно вырабатывается теория этногенеза китайцев, вполне доказано существование династий Шан-Инь (XVI–XI вв.) и Ранней Чжоу (XI–VIII вв.), которые французский синолог за недостаточностью в его время свидетельств об их историчности исключил из своей реконструкции. Культура этих династий, ее развитие и особенности сегодня тоже стали доступны для исследования благодаря раскопкам, расшифровке гадательных надписей и изучению эпиграфики. По всем отмеченным выше аспектам книга Гране бесспорно нуждается в коррекции и дополнении данными современной науки.
Стремление к максимальной научной объективности, отвечая достаточно распространенному тогда в синологическом источниковедении скепсису, обусловило еще одну исследовательскую крайность французского синолога – его гиперкритицизм в отношении древнекитайских письменных источников, в первую очередь исторических документов. О том, что он мало им доверял, свидетельствует, например, такое его утверждение: «Вся история Древнего Китая основывается на одновременно невинной и умудренной системе фальшивок». Гране чутко и глубоко осознавал непростое отношение к истории ее древнекитайских знатоков, не мысливших исторической правды вне правил идеологического и литературного этикета. Но такая этикетно оформленная правда отнюдь не была равнозначна сплошной выдумке или фальшивке. И в общем-то, несмотря на некоторые свои крайние заявления, Гране не отрицал, что китайская традиция, учитывая то большое значение, какое ей придавалось, могла быть известна «достаточно точно». Тут вновь его позиция становится несколько парадоксальной. Избегая «увязывать» свою реконструкцию «с какой-либо хронологией», он в то же время (хотя и в более общем плане) попытался показать «формирование китайской цивилизации» в последовательной исторической смене ее основных социальных слоев. Иначе говоря, им была поставлена задача решить не совсем разрешимое: с недоверием к историческим источникам, однако исключительно на их же основе воссоздать реальную историю. Тем не менее как раз в парадоксе и бывает проблеск истины. Критика «наотмашь» древнекитайских письменных памятников в свете их нынешней изученности вряд ли сейчас может быть воспринята. Но совсем иначе обстоит дело с его уникальным творческим методом, осуществлением которого и стала «Китайская цивилизация».