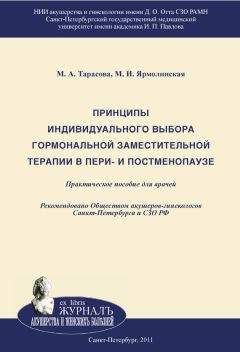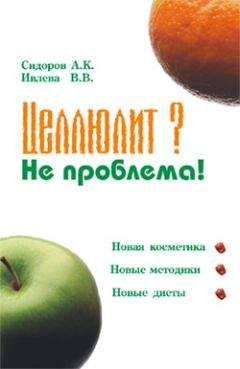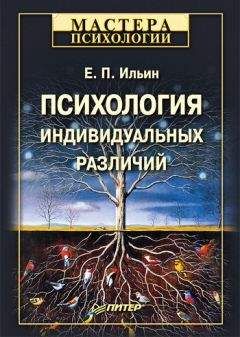Александр Панченко - О русской истории и культуре
Диапазон возможностей широк. Можно избрать сервильную позицию, воспевать благосклонно внимающего звукам лиры монарха, рассчитывая на то, что он осыпет певца высочайшими милостями. Эта панегирическая струя очень сильна и в петербургский период, ей отдали дань почти все поэты — Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков, Петров, Державин… Поздний отголосок традиции — пушкинские «Стансы», за которые автору пришлось оправдываться. Однако и панегирическая поэзия проблемна. В ней ощущается драматизм, и он неизбежен, если поэт заботится о публичной репутации. Он не просто «воспевает», он дает монарху советы, «печалуется» перед ним, действительно усваивает пастырские функции.
Пусть с 1721 г. в России отменено патриаршество, пусть Синодом ведает обер–прокурор в мундире, кафтане или сюртуке, но вовсе не отменена культурная привычка, согласно которой у человека и у нации должен быть духовный отец. История русской души в петербургский период есть история его поисков. Униженная Церковь в век Просвещения не в состоянии выдвинуть кандидата или кандидатов. Главным претендентом выступает монарх. Это прежде всего Петр, Отец Отечества, Великий, Первый — и действительно первый православный великоросс, которому были изваяны и воздвигнуты кумиры. Монарх получает пастырское прозвище — именно пастырское, потому что русское сознание сопоставляет его не с титулатурой западных властителей, а с прозваниями святых отцов, таких как Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Екатерина Великая, Александр I Благословенный, Александр II Освободитель, Александр III Миротворец. В этом ряду нет Анны (ее не любили), нет Елизаветы (она была очень православна и на какое–либо прозвание не претендовала), нет по понятным причинам Петра III и Павла I, нет и Николая I.
Однако поползновения монарха остались втуне, даже притязание Петра. «Ужо тебе!» — эти слова Евгения, обращенные к Медному всаднику, можно считать гласом народа, а «глас народа — глас Божий». Какое тут духовное отцовство… Заметим, кстати, что в великорусском месяцеслове нет ни одного царя — при множестве святых князей. Вряд ли это случайность: святости удостаивается тот, кого любят, царей же у нас не любили, а боялись. Кого же выбрать?
Русь испокон веку гордилась своими угодниками Божиими — в частности, самим их «изобилием», которое считалось порукой Господнего благоволения и покровительства. Одна из героинь Лескова, «баба», которых он так любил изображать, говорила собеседнику примерно следующее: «Батюшка, все святые русские были…» Россия нуждалась в святых, жизнь «без святости» ее тяготила. Однако Петр как бы приостановил русскую святость. Об этом можно судить и по «Духовному регламенту», в котором отношение к канонизации явно скептическое (под влиянием протестантизма), и по церковной практике петербургского периода. «Два последних синодальных столетия отмечены чрезвычайно ограничительной канонизационной практикой: к лику общечтимых святых причислены всего четыре угодника (кстати, один из них поэт — св. Димитрий Ростовский. — А. П.). В XVIII в. нередки случаи, когда епархиальные архиереи собственной властью прекращали почитание местных святых, даже церковно канонизованных. Лишь при императоре Николае Александровиче, в соответствии с направлением его личного благочестия, канонизации следуют одна за другой: семь новых святых за одно царствование».
Итак, от царей нация отвернулась, святых меньше приобрела, нежели потеряла. Остались поэты. И нация выбрала Пушкина. Причины этого заслуживают специального рассмотрения.
Из истории
русской души
КРАСОТА ПРАВОСЛАВИЯ И КРЕЩЕНИЕ РУСИ
Всякое изменение и социального, и культурного статуса нации есть историческая драма. Драматическим было и крещение Руси. Если прав В. Л. Янин, недавно подтвердилось позднее, считавшееся баснословным и не принимавшееся в расчет известие Иоакимовской летописи о вооруженном сопротивлении крещению жителей Софийской стороны Новгорода, о расправе их с прихожанами Спасского храма, который прежде мирно уживался с языческой в большинстве своем средой. «Археологические раскопки выявили ряд существенных реалий, соответствующих этому рассказу. Церковь Спаса может быть локализована только на Разваже улице, где в дальнейшем существовал храм с тем же названием. В этом районе была произведены раскопки широкой площадью и… обнаружены следы пожара 989 года, уничтожившего здесь всю застройку. На двух усадьбах найдены значительные монетные клады, зарытые перед указанным пожаром. Эти сокровища остались „невостребованными”, и, следовательно, их владельцы тогда же погибли. Важнейшей следует признать находку в слоях, предшествующих пожару 989 года, христианского креста–тельника, свидетельствующего о наличии здесь христиан до официального акта крещения» [Янин, 62].
Правда, археологическая датировка с точностью до года выглядит непривычно. Но о том, что новую веру и, соответственно, новую культуру вводили принудительно, говорит и «Повесть временных лет». Побуждая киевлян к крещению, Владимир прибег к угрозе: не явившиеся на реку объявлялись врагами князя. Поскольку Христианство — «книжная вера», то вскоре понадобилась и новая, книжная интеллигенция. Владимир «нача поимати у нарочитые чада дети, и даяти нача на ученье книжное». Согласия у неофитов (заметим, из социальной верхушки) никто не спрашивал, и «матере же чад сих плакаху но них, еще бо не бяху ся утвердили верою, но акы по мертвеци плакахся» [ПЛДР, XI–XII, 132] [100].
Комментируя этот фрагмент, Б. А. Успенский сопоставил» реформу Владимира с реформами Петра: «Здесь возникает разительная аналогия с процессом европеизации при Петре I, одним из моментов которого также было насильственное обучение» [Успенский, 1983, 13, примеч. 1]. Такая аналогия, действительно, резонна, но драматизм христианизации не идет ни в какое сравнение с драматизмом и даже трагизмом европеизации. Во втором случае общество буквально раскололось, раздвоилось, оказавшись в состоянии войны — отчасти социальной и прежде всего идеологической. Старообрядческие самосожжения, не имеющие прецедента в русской истории, — красноречивое тому свидетельство. В первом случае все обошлось более или менее мирно, что явствует из той же археологии.
В самом деле: есть три вехи на пути человека — рождение, брак, смерть. Их обрядовое обрамление необходимо и достаточно для оценки религиозной и культурной ориентации общества. Из правил митрополита Иоанна II известно, что в поколениях внуков и правнуков Владимира венчание оставалось прерогативой социальной элиты. Простой же народ продолжал «играть» свадьбы без попа (показательно, что этот глагол употребляется только с существительным «свадьба» и не применяется ни к какому другому празднику; языческий ореол глагола очевиден из Даниила Заточника, который «уравнивал как запретные „Богу лгати” и „вышним играти“» [Лотман, Успенский, 1973, 161]). Масса сельских жителей и покойников своих хоронила по–язычески. Крестики в домонгольских погребениях в общем редки.
К тому же они как бы уравнены в правах с амулетами, например с медвежьими клыками, и с украшениями, например с бусами. Что до рождений, то у нас нет материала, дабы судить о том, сколько из них сопровождалось крещением младенцев, а сколько нет. Впрочем, к удельному весу мирских и крестных имен в княжеском роду мы еще обратимся.
Для новообращенных народов можно считать почти правилом появление «Юлиана Отступника», когда государь, наследующий первому христианину из правящей фамилии, пытается реабилитировать и восстановить язычество. Так, например, было в Болгарии, в Польше, так было и в Швеции XI в. после падения династии Инглингов. Но Русь являет собою исключение из этого правила. Казалось бы, нет ничего естественнее, чем обвинение в неоязычестве Святополка Окаянного, убийцы первых киевских святых Бориса и Глеба. Но в борисоглебских памятниках, единодушно и резко ему враждебных, такого обвинения не находим — потому, видимо, что для него не было ни малейших оснований.
Если верно, что для христианизации Руси характерна «пониженная драматичность», то о причинах этого надлежит задуматься. Бесспорно, что христианство распространилось в Киеве задолго до Владимира. Он «сделал христианство общею верою всего народа; но, прежде чем стать верой общею и господствующею, христианство довольно долгое время, не менее полувека, непрерывно существовало в России как вера частная, обок и рядом с господствующим язычеством» [Голубинский, 54–55].
Отношение киевской знати к христианству менялось. Из договоров с греками видно, что при Игоре оно было сочувственным (часть его дружинников клялась Перуном, часть же — церковью Ильи), а при Святославе — равнодушным, но всегда терпимым. «Живяше же Ольга с сыном своим Святославом, и учашеть и мати креститися, и не брежаше того ни во уши приимати; но аще кто хотяше креститися, не браняху, но ругахуся тому… Якоже Ольга часто глаголашеть: „Аз, сыну мой, Бога познах и радуюся; аще ты познаеши, и радоватися почнешь”. Он же не внимаше того, глаголя: „Како аз хочю ин закон прияти един? А дружина моа сему смеятися начнуть“» (с. 76–78). Весьма показательно, что Святославу христианство представлялось смешной верой («ругахуся» ведь тоже говорит не о брани, но насмешке). Святослава можно понять, если сопоставить походную жизнь этого сурового воина с Десятословием и Нагорной проповедью, в которых запрещалось проливать кровь и предписывалось любить врагов. Но важно, что летопись позволяет судить об эмоциональном и эстетическом восприятии князем христианства: оно не страшно, оно смешно, а со смешным не борются, его терпят.