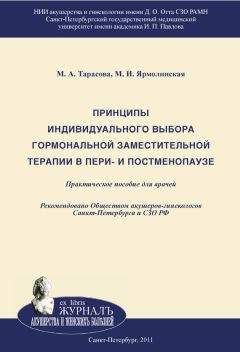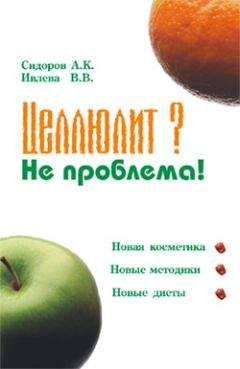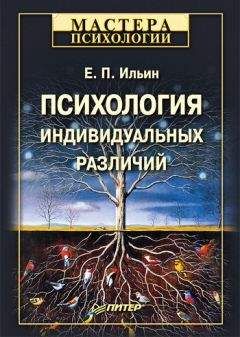Александр Панченко - О русской истории и культуре
Два эти стиха проясняют авторские интенции. Лира не «вдохновенная», а «богомольная». Ясно, что имеется в виду не языческий бард, но лирик из народа, бродячий певец, — из тех, кто на паперти «тянет Лазаря». В их репертуар входят духовные стихи на ветхозаветные и евангельские темы (разумеется, стихи благочестивые). По жанру это апокрифы, дополненные собственными измышлениями сочинения о библейских персонажах. Лирники были известны не одной Малороссии, но и Петербургу; здесь они носили прозвище «рыльники» [см. Даль, 254]. Пушкин и надел маску «рыльника», «харю», которая, как он сам впоследствии признал, отнюдь его не украсила. Прошло время, и он стал разыскивать и жечь списки богопротивной своей поэмы. Таким образом, по капризу судьбы «Гавриилиада» разделила участь русского перевода Пятокнижия Моисеева.
Современники Пушкина при чтении «Гавриилиады» не могли не видеть, что автор метит прямо в царя. Древний спор александрийской и антиохийской школ по поводу того, как правильно толковать Писание — аллегорически либо исторически, был решен Александром (разумеется, и наперсником его Голицыным) в пользу аллегорического толкования. Для царя богодухновенный текст — таинственный знак, гиероглиф, который познаваем лишь сердцем, лишь посредством мистического общения с Всевышним. Свидетельств более чем достаточно; например, в составленной императором записке «О мистической словесности» есть такое рассуждение: «И ныне, как некогда, есть Церковь внешняя и есть Церковь внутренняя. Основание учения в обеих Церквах есть одно и то же: Библия, но в первой известна одна буква, а во второй преподносится ее разум» [Николай Михайлович, 286–290]. Пушкин же — в пику царю и рекомендациям «сугубого» министерства — читает Евангелие как историю, переводя ее во фривольный и даже скабрезный план.
Этот исторический взгляд Пушкин никогда не переменял. «Библия для христианина то же, что история для народа, — пишет он сестре и брату в 1824 г. — Этой фразой (наоборот) начиналось прежде предисловие Ист.<ории> Кар.<амзина>. При мне он ее и переменил» (XIII, 127).
В скрытой пикировке с царем есть еще один немаловажный нюанс. Он также остался «за текстом», но был ясен каждому, кто принадлежал петербургскому свету. «Гавриилиадой» Пушкин упрекал и уличал Александра в лицемерии. Поэма — это изложенный русскими стихами ветхозаветный апокриф, притом она открыто ориентирована на француза Парни. Что до царя, ратовавшего за русский перевод Писания, — ему этот перевод, в сущности, не был нужен. В обществе знали, что Александр всегда читал Новый Завет во французской версии де Саси, не переменив этого обыкновения и после выхода издания 1820 г. 1
Итак, «Гавриилиада» направлена не против Царя Небесного, а против царя земного (что, повторяю, поэта не оправдывает). Судить по ней о религиозных чувствах Пушкина было бы опрометчиво. Для этой цели гораздо больше подходят те его сочинения, в которых он специально о предметах веры не задумывается. Это, например, «Евгений Онегин», свободный от конфессиональной ангажированности. Быть может, Белинский выразился слишком сильно, назвав его энциклопедией русской жизни. Но уж во всяком случае это «карманное зеркало петербургской молодежи» (XIII, 133), как сказал о заглавном герое романа П. А. Плетнев. Мы вправе полагать, что в зеркале этом отразился и Пушкин, и вообще люди его поколения, его состояния и воспитания.
* * *
Евгений Онегин в первой главе гуляет в Летнем саду, учится, влюбляется, становится театральным завсегдатаем, ездит к Talon, танцует на балах, вообще делает разные разности, — но ни разу не заглядывает в церковь и лба не крестит. Между тем «в жизни» он с детства твердил молитвы, бывал у причастия, а повзрослев, каждый год говел, исповедовался и причащался (это мы знаем твердо: так было принято, так поступал и Пушкин, хотя бы для удостоверения лояльности).
Потом Онегиным овладела хандра, он заперся, но ему и в голову не пришло отправиться в Божий храм за духовным утешением, дабы избыть смертный грех отчаяния.
Со строфы LIII герой в деревне, и здесь впервые звучит церковная тема:
Покойника похоронили,
Попы и гости ели, пили,
И после важно разошлись,
Как будто делом занялись.
Но это всего лишь бытовая, обрядовая деталь. На похоронах, крестинах, при венчании (ср. в седьмой главе сцену, где Ольга стоит с уланом «пред алтарем») без священника не обойтись. Но в романе он — всего лишь статист.
Обозревая поэтические ландшафты и поэтические интерьеры романа, петербургские или деревенские, мы не найдем ни храма, ни иконы. Вот дом дяди, где покойник прожил сорок лет и где поселился Евгений:
Везде высокие покои,
В гостиной штофные обои,
Царей портреты на стенах,
И печи в пестрых изразцах…
Все было просто: пол дубовый,
Два шкафа. Стол, диван пуховый,
Нигде ни пятнышка чернил.
Но где образа и где лампады? Разумеется, и образа в доме висели, и лампады теплились (тем более что после похорон прошло мало времени), но взгляд Онегина (и Пушкина) скользит мимо них. У Лариных тоже нет икон, хотя это семейство изображено в старосветских топах:
Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели…
В день Троицын, когда народ
Зевая слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слезки три…
Здесь и ирония, и почтительность — почтительность человека, который говеет раз в Великом посту, и то без всякого «умиления души». Об этом говорит хотя бы деепричастие «зевая», которое характеризует не столько крестьян, сколько Онегина.
Нет в романе ни теплой веры, ни даже православной церковности. Мечтательный Ленский, посетив кладбище и прослезившись над прахом родителей и несостоявшегося тестя, в церковь — ни ногой (по крайней мере, от Пушкина мы об этом ничего не узнаем), хотя «в жизни» он ее обязан был посетить и, конечно, посетил, подал поминание и заказал положенную службу. Когда Ленский думает о браке с Ольгой, он рисует «храм Киприды», а не православный храм. Если к нему равнодушен Ленский, то тем более равнодушен Онегин; в его времяпрепровождении церкви места нет:
Его вседневные занятья
Я вам подробно опишу.
Онегин жил анахоретом;
В седьмом часу вставал он летом
И отправлялся налегке
К бегущей под горой реке;
Певцу Гюльнары подражая,
Сей Геллеспонт переплывал,
Потом свой кофе выпивал,
Плохой журнал перебирая,
И одевался…
Прогулки, чтенье, сон глубокой,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина;
Вот жизнь Онегина святая…
Впрочем, довольно. Все они одинаковы — и Ленский, и Онегин, и даже Татьяна: прощаясь с родиной, она с церковью (где ее крестили и где отпевали ее отца) проститься не удосужилась; точнее говоря, Пушкин это прощание не удосужился описать. Только в седьмой главе, у ворот Москвы, в поэтическом ландшафте наконец–то появляются маковки, обители и кресты:
Но вот уж близко. Перед нами
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! Как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!..
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.
Но все это — топика первопрестольной, где «сорок сороков», где твердыня Православия — Успенский собор, в котором венчаются на царство русские цари… Даже акустическая, так сказать, примета Москвы православна: это колокольный звон. Для Петербурга же характерны гром пушек и цокот копыт по торцам, «тяжелозвонкое скаканье по потрясенной мостовой». Только попав в Москву, мы узнаем, что русский человек кроме всего прочего еще и прихожанин («У Харитонья в переулке», «живет у Симеона»). Впрочем, это и адресный принцип старой столицы, скорее всего только его имеет в виду Пушкин, ибо героиня и родня ее в храме не показаны. В Петербурге иная, регулярная организация городского пространства, соответственно иной адресный принцип, поэтому в восьмой главе петербуржцы уже не выглядят прихожанами.