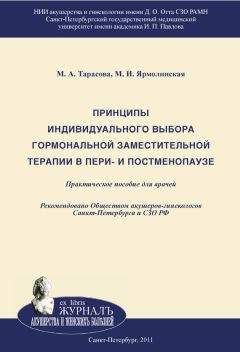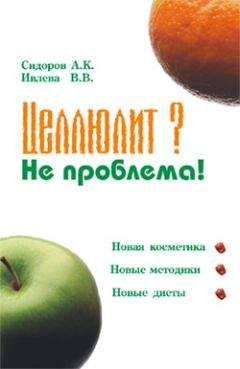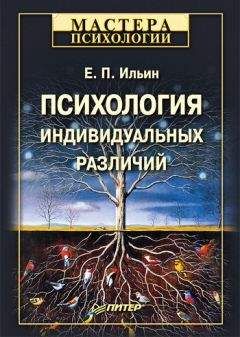Александр Панченко - О русской истории и культуре
Janson. Janson H. W. Apes and Ape Lore. London, 1952.
Jones. Jones R. F. The Triumph of the English Language. A Survey of Opinions Concerning the Vernacular from the Introduction of Printing of the Restoration. Stanford, 1953.
Kolâr, 1959. Kolar J. Frantové a grobiâni. Z mravokârnÿch satir 16. vëku V Cechach. Praha, 1959.
Kolâr, 1974. Kolâr J. Rozmlouvâni Salomouna s Markoltcm a lidovâ smichova kultura v ceskych zemich // Ceskâ literatura, Praha, 1974. Ć. 2.
Lausberg. Lausberg H. Handbuch der literarischen Rhctorik. 2. Aufl. München, 1973. Bd. 1.
Literatura… Literatura mieszczańska w Polsce od końca XVI do końca XVII wieku / Oprać. K. Budzuk, H. Budzykowa, J. Lewański. Warszawa, 1954. T. 2.
Lueken. Lueken W. Michael. Eine Darstellung und Vergleichung der jüdischen und morgenlandisch–christlichen Tradizion vom Erzengel Michael. Gottingen, 1898.
Mathauserovâ, 1967. Mathauserovâ S. Umêlâ poezie v Rusku XVII. stoleti // Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Praha, 1967. № 1–3.
Mathauserovâ, 1968. Mathauserovâ 5. Baroko v ruské literature XVII. stoleti // Ceskoslovenské prednâsky pro VI. Mezinâr. Sjezd slavistü. Praha, 1968.
Michałowska. Michałowska T. Staropolska teoria genologiczna. Wrocław, 1974.
Moczałowa. Moczahwa W. Miejsce anonimowej prozy plebejskiej w rosyjsko–polskich związkach literackich XVII w. («Сказание о роскошном житии и веселии» i «Nowy Świat»)// Tradycja i Współczesność: Powinowactwa literackie polsko–rosyjskie. Wrocław, 1978.
Oderborn. Oderborn P. Wunderbare, erschreckliche, unerhórte Geschichte und warhaffte Historien… Gorlitz, 1588.
Otwinowska. Otwinowska B. Język–Naród-Kultura. Wrocław, 1974. Picchio. Picthio R. Questione della lingua e Slavia Cirillometodiana // Studi sulla questione della presso gli Slavi. Roma, 1972.
Polska satyra… Polska satyra mieszczańska / Wyd K. Badecki. Kraków, 1950.
Sajkowski. Sajkowski A. Barok. Warszawa, 1972.
Sarbiewski. Sarbiewski M. K. Wykłady poetyki. Wrocław, 1958.
Shopenhauer. Shopenhauer A. Die handschriftliche Nachlass: Teilsammlung / Hrsg. von Arthur Hubscher. Frankfurt^. M, 1970. Bd. 3. Berliner Manuskripte (1818–1830).
Sullivan, Drage. Sullivan J., Drage C. L. Poems in an Unpublished Manuscript of the Vinograd rossiiskii // Oxford Slavonic Papers. New Ser. 1968. Vol. 1.
Tatarkiewicz, 1967. Tatarkiewicz W. Historia estetyki. Wrocław, 1967. T. 3: (Estetyka nowożytna).
Tatarkiewicz, 1972. Tatarkiewicz W. Droga przez estetykę. Warszawa, 1972.
Tubach. Tubach F. Index exemplorum. Helsinki, 1969.
Wiek XVIII. Wiek XVIII — Kontrreformacja — Barok. Wrocław, 1970.
О русской литературе
РАННИЙ ПУШКИН И РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ
Тема «Пушкин и Православие» затрагивалась в отечественной пушкинистике XX в. нечасто [98]. Причина этого ясна: долгое время считалось, что Пушкин был плохим христианином и, соответственно, плохим православным; значит, о его религиозности и толковать нечего. Таков «общий глас», и нельзя не признать за ним известных резонов. Это и кощунственная «Гавриилиада», и масонство (ложа «Овидий»), притом радикальное [99], это (в первую очередь) пресловутые «уроки чистого афеизма» (XIII, 92), за что Пушкин и пострадал. Хотя впоследствии он «Гавриилиады» стыдился, в масонах не состоял, атеизма не обнаруживал, — грехи юности и молодости ему никогда не были отпущены. «Мы насилу довели его до смерти христианской», — изрек Николай I [см. Щеголев, 147], и эти слова определяли конфессиональную репутацию Пушкина в советское время, когда атеизм стал вменяться в заслугу. Императору угодно было подозревать Пушкина в безбожии; П. Е. Щеголев постарался эти подозрения всячески подкрепить, уличая в разноречиях и неточностях людей, присутствовавших у смертного одра поэта и описавших его кончину.
Вся эта схема так или иначе действенна до сих пор. Теперь, впрочем, признают, что царский посмертный приговор — на деле оговор, что Пушкин послал за священником вскоре после того, как его привезли с Черной речки, — до получения высочайшей записки с советом «умереть по–христиански», исповедавшись и причастившись. Несовпадения, которые есть у мемуаристов, Я. Л. Левкович объясняет так: «Неточность показаний свидетельствует только об одном — христианскому обряду они не придавали того значения, которое вложил в него Щеголев. В пушкинскую пору исповедь и причащение умирающего так же обязательны, как крещение или венчание, и, независимо от религиозных чувств Пушкина, он должен был обряд исполнить…» [Чистович, 17].
Это верно, и аналогий сколько угодно. Ограничимся одной. Когда через девять лет в Москве умирал закоренелый вольтерьянец И. А. Яковлев, отец Герцена, ни в грош не ставивший православную обрядность, он все же допустил к себе священника, хотя и не преминул предварить «церемонию» капризными, неблагочестивыми речами. И похороны этого вольнодумца были торжественными, с участием архимандритов и архиерея, словно праведник упокоился [см. Герцен, т. 9, 174–176].
Итак, схема изменилась, но изменилась незначительно. Поведение Пушкина православно, однако это дань обычаю, «независимо от религиозных чувств». Прежде Пушкин считался плохим христианином, теперь он считается никаким христианином. Православие Пушкину, так сказать, нерелевантно.
Что до Николая I, его действия заслуживают дополнительного комментария. Если в словах его звучит личное предубеждение и раздражение, то в записке ничего подобного нет. По–человечески это понятно — она послана умирающему. Но необходимо учесть, что автор записки — не только монарх, это и глава русской Церкви. Так повелось с 1721 г., с упразднения патриаршества и учреждения Синода, члены которого вплоть до начала нашего столетия приносили присягу императору, «крайнему Судии Духовной коллегии». Синодское «окормление», т. е. руководство душами пасомых, — это лишь императорская «делегация», поручение, что в пушкинское время наглядно выразилось в усилении роли статского обер–прокурора, которая из наблюдательной стала распорядительной: в 1824 г. он был уравнен с министрами, а двенадцать лет спустя введен в кабинет и в Государственный совет [см. Милюков, 158]. Архипастырские претензии монарха были четко, даже барабанно закреплены в николаевском законодательстве: «Император яко христианский государь есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры и блюститель правоверия и всякого в Церкви Святой благочиния» (статьи 42--43 «Основных законов Российской Империи»).
Сообщая Пушкину о прощении, Николай имел в виду не только нарушение закона (дуэли в России были запрещены со времен «Воинского регламента» Петра I), не только нарушение честного слова, данного 23 ноября 1836 г. в Аничковом дворце, — обязательства не стреляться с Дантесом, [см. Абрамович, 164]. «Блюститель правоверия» тем самым закрыл глаза на смертный грех, санкционировал его отпущение, — ибо дуэлянты с церковной точки зрения приравнивались к самоубийцам, которые заведомо губили душу и которых запрещалось погребать в освященной земле. Сходная судьба вскоре постигла Лермонтова. Следственная комиссия по его делу ссылалась именно на погребение Пушкина (I): «…в подобном случае камер–юнкер Александр Сергеев Пушкин отпет был в церкви конюшен Императорского двора в присутствии всего города» [Лермонтовская энциклопедия, 153].
Из пушкинских героев традиционная посмертная участь самоубийцы постигла Ленского:
Есть место: влево от селенья,
Где жил питомец вдохновенья,
Две сосны корнями срослись;
Под ними струйки извились
Ручья соседственной долины.
Там пахарь любит отдыхать,
И жницы в волны погружать
Приходят звонкие кувшины;
Там у ручья в тени густой Поставлен памятник простой.
Правда, в шестой и седьмой главах «Евгения Онегина» по этому поводу рефлексии нет. Но тогда автор был молод, а теперь — теперь он уже выбрал место последнего своего приюта (странная предусмотрительность для никакого христианина!). Получив высочайшее помилование, Пушкин мог быть уверен, что чаша сия его минует и что он будет почивать в Святогорском монастыре.
Любой вере, как и безбожию, присущи национальные и эпохальные черты. Это не только мировоззрение, доктрина, догматика — это еще и культура. Пушкинский атеизм, например, уживался с суеверностью. Обычно в этой связи вспоминают о предсказаниях гадалки Кирхгоф, но есть и другие факты, когда Пушкин воспринимал какие–то события как проявления злых сил. Так, петербургское наводнение он трактовал в качестве «потопа», зловещего знамения (XIII, 127). Все это признаки «отрицательного религиозного мировоззрения» [Флоренский, 252]. Наука им пренебрегает, Церковь его не одобряет. Но это, во всяком случае, не религиозное безразличие, т. е. не «чистый афеизм».
Весьма важно отметить, что одесские уроки не вызвали у Пушкина энтузиазма: «Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но к несчастию более всего правдоподобная» (XIII, 92). Почему «к несчастию»? Психологические следствия атеизма двояки. Нигилистам, отрицателям и разрушителям он придает силы, поскольку избавляет их от страха загробного воздаяния. О таких атеистах сказал Достоевский: «Бога нет, все позволено». Их всегда боялись самые толерантные мыслители, начиная с Джона Локка. Пушкин принадлежит к другому типу. Когда его собеседник англичанин (Гутчинсон) «мимоходом уничтожил слабые доказательства бессмертия души», это нисколько не поколебало нравственные правила ученика. Он опечалился оттого, что приходилось расставаться с обетованием вечной жизни, приходилось смириться с тем, что смерть — не рубеж, не веха, означающая конец земного странствия и переход в иной, быть может лучший, мир, а конец абсолютный и бесповоротный. В такой перспективе действительно мало радости, особенно для молодого человека, который еще не устал от жизни и не знает, что есть вещи похуже смерти. Если бы все это сообразили власти и родные Пушкина, вряд ли их испугал бы его атеизм. Но им почудился в нем бунт и потрясение основ, поскольку традиция предписывала отождествлять его с безнравственностью и вседозволенностью.