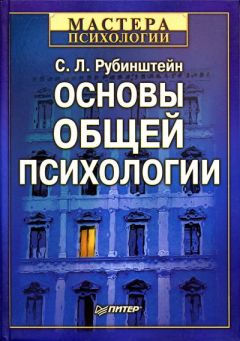Виктор Острецов - Масонство, культура и русская история. Историко-критические очерки
В 60-е годы учащаяся молодежь кипела и бурлила. Все делились на группы и группки. Наш курс в институте не был исключением. С одной стороны — молодые карьеристы, скалозубы, бегающие с доносами в деканат и в партком. С другой — мы, неоперившаяся молодежь, смотревшая на запад, как на земной рай. Надо ли говорить, что тон всему в этой среде задавали евреи, которых у нас на «потоке» было большинство абсолютное. По крайней мере, в нашей группе, совершенно типичной в этом отношении, евреев было из 12 человек семь, а из русских две девушки были замужем за евреями. В то время мы бегали смотреть импрессионистов, слушали «голоса» и рассказывали анекдоты о тупости советских чиновников. Надо признать, что и скалозубы не давали повод восторгаться своими моральными и идейными качествами. Здесь царил цинизм и карьеризм нескрываемый. Никто ни во что не верил.
Впрочем, и в нашей среде, диссидентско-студенческой, принципами не пахло. Мой однокашник С., еврей, с которым я затем работал и на Севере, после анекдотов и возмущений по поводу советской тупости, мог тут же переключиться на рассуждения о том, как бы ему попасть в комитет комсомола, чтобы получить теплое местечко по окончании института. Еврейская среда достаточно своеобразна в этом отношении. Уживаются вещи, «в одном флаконе» не совместимые, и безо всякого внутреннего конфликта. Веши, которые в русском ужиться рядом никак не могли бы, не вызвав душевной драмы.
Одновременно я ходил в Историческую библиотеку и «ленинку». Однажды, уже на пятом курсе, я познакомился в «историчке» со странным «черным» человеком. Он был похож на цыгана, с черной, как смоль, бородой. Живой как ртуть, постоянно возбужденный, он сыпал какими-то фактами, как горохом. Его собеседники в курилке библиотеки, будущие историки, делали слабые попытки возражать. Он же нес самую откровенную антисоветчину и говорил о жидах и масонах. Осмыслить, что он говорил, я не мог. Я просто ничего не знал из того, о чем он говорил. Мой ум плавал в каких-то расплывчатых идеях, не опираясь ни на какие точно подобранные и систематизированные факты. В то время я не мог бы, вероятно, сказать, кто такие были кадеты или октябристы. И у меня не было никакого представления о февральской революции или о масонах. Я знал, что где-то и что-то «такое» было. Вот и все. В лице же моего нового знакомого, Александра Филипповича, я увидел просто представителя другой цивилизации, внеземной. И от этого инопланетянина я впервые услышал слово «монархист», сказанное им о самом себе. Меня это не шокировало, потому что я просто не знал, что это такое — в наше время быть монархистом. Мои однокашники, по преимуществу евреи, просто мечтали о сытой и богатой жизни. О возможности посидеть в кафе, вырулить на «бродвей» на своей машине и иметь возможность открыть свое дело. Вот, пожалуй, и все их идеалы. Те из них, кто мог осуществить их при «советах», с радостью это делали. Все их недовольство сводилось к разговору о деньгах, барахле и антисемитизме. Доказательства наличия последнего они видели в том, что кого-то из близких или знакомых не взяли в какой-то институт, обычно мифический, или не дали визу, и «он теперь страдает от этой ихней тупости». Но поскольку не брали на работу как раз русских, если начальство было сплошь еврейским, то поверить в этот антисемитизм было трудно. Это была, впрочем, единственная тема, которая разделяла меня и моих однокашников-евреев. Что касается эмоционального неприятия советского режима, то здесь моя душа открывалась в разговоре с ними. Тем более, что и народ этот был живой, подвижный, сообразительный, и в житейской отношении с ними в то время было легко. Они «все понимали».
На этом фоне совершенной беспринципности и, в сущности, невежества, Александр Филиппович выглядел действительно пришельцем из других эпох. У него и манера держаться была какая-то старорежимная. Но самое удивительное, что и тогда дойти до интереса к монархизму я так и не смог. Надо заметить, что постепенно у нас в «историчке» сложился некий кружок молодежи. Нас интересовала именно русская история и русская судьба. Мы хотели понять, отчего все сложилось так, а не иначе. Откуда взялись большевики, что было бы, если б в 17-м году не произошло революции. Тут же и еврейский вопрос, и роль этого «вопроса» в событиях тех лет. Шел 1965 год. Не раз и не два Александр Филиппович, «борода», объяснял нам и втолковывал, кто такие были кадеты и кто такие масоны, и называл большевиков бесами и жидохвостами. В первое время мы вежливо улыбались: слишком резко и не научно. О Ленине он мог рассказывать часами. О пломбированных вагонах, о связях с германским генштабом и проч., и проч.
Однажды осенью я пришел в библиотеку и взял журнал «Русская мысль» за какой-то предреволюционный год. В то время этот кадетский орган печати мне казался «самым-самым». По крайней мере, в нем не было цитат из Ленина и Маркса. И был хороший русский язык, на котором в наше время уже никто не пишет научных сочинений, даже исторических. И вдруг мой взор попал на название очерка в двух номерах: «Ошибки и преступления большевиков в революции 1905 года». Это был один из тех моментов, которые не забываются никогда. В то время я еще не знал, что совсем скоро мне воочию придется увидеть и ошибки эти и преступления. Увидеть и тех, кто их совершал, и тех, кто от них пострадал. Очерк этот содержал исключительно одни факты, одни признания участников тех событий, почти современных для очерка. И эти факты и имена, и высказывания Ленина и его соратников, и отзывы зарубежной прессы, и самих революционеров, — все это слилось в моем сознании в один поток. Я не мог оторваться. Голова у меня в конце концов стала какой-то ватной. Я сидел в царстве большевизма и читал то, за что полагался бы тюремный срок. Но не это меня волновало. Было жуткое, ощутимое чувство лжи; вроде как перед декорацией с ненастоящими горами, лесами и дворцами вас уверяют, что все это — «всамделишное». Именно с таким ощущением я вышел на улицу. И мне показалось, что и улица-то какая-то нарисованная, ненастоящая. И стены домов картонные, а прохожие — просто тени умерших. Это ощущение всеобщей лжи трудно передать словами. Но оно было всеохватывающим: все вокруг — дома, улицы, люди, слова — не настоящие.
Правда о 1905 годе, о сотрудничестве большевиков с охранкой, уже в то время не бывшее никаким секретом для их революционных соратников, близкие отношения с Германией, провокации и умышленное стравливание народа с войсками, чтобы вызвать кровопролитие, циничные заявления лидеров большевизма и сотни других фактов, обрушились на мою голову , совершенно не готовую все это воспринять. Важно было, что весь этот материал был горячим, в сущности — репортажем с места событий.
Шли 60-е годы, голодные и тревожные. Но в целом это было прекрасное время. Потому прекрасное, что была молодость и были надежды. И, главное, были такие же молодые люди, сверстники, тоже возбужденные общими политическими вопросами, неизбежно соприкасающимися с интересом к истории. Разговоры, споры, свидания с девушками, находки в библиотеке, вроде названной... Александр Филиппович жил в Измайлове, напротив леса, а я жил на другой стороне того же леса, на шоссе Энтузиастов. Мы часто шли через лес от Семеновского метро. В лесу же, на Пасеке, жил мой хороший товарищ, потом крестник, Ю.В. 0-ко. В конце концов, общим местом встречи и стала эта Пасека, дом гостеприимного моего товарища. Ю.В. был рабочим завода, книгочеем и книголюбом. На этом интересе мы и сошлись в свое время. Кроме того, когда-то мы ухаживали за одной девушкой, жившей в то время тоже на Пасеке.
Другая сюжетная линия, разворачивавшаяся одновременно с этой, касалась моего однокурсника татарина Ш-ва. Это была очень колоритная фигура. Человек прямолинейный, цельный, он был, увы, членом партии. «Увы» для него самого. Мы близко познакомились с ним уже на пятом курсе, на военных сборах. Он знал массу фактов из истории большевизма, прогрыз до дыр «классиков», сравнил все это со своей тяжелой жизнью в подвале на гроши, в голоде и холоде, и... возмутился.
В отличии от моих еврейских друзей, ругавших большевиков и их «антисемитизм», но при этом соблюдавших благоразумие, Ш. решил довести дело до конца. Как только мы вернулись с военных сборов, он написал заявление о выходе из партии. И отнес это заявление в партком.
Сначала с ним тихо беседовали. Тихо, чтобы замять дело, и не сделать его предметом огласки. Его уговаривали подождать по крайней мере до окончания института. Ш. заявил, что не желает пребывать в этой карьеристской организации, затравившей народ и погрузившей страну в море лжи, ни на одну секунду. Весь наш курс наблюдал за событиями, затаив дыхание. Последний эпизод этой истории был самым драматичным. Когда в парткоме поняли, что замять дела не удастся, то решили поставить на заседании парткома вопрос об исключении Ш. из института. А ведь дело происходило за несколько месяцев до его окончания. До получения диплома оставались считанные недели. На парткоме нашего, 1-го Медицинского, первым выступал громогласный Владимир Исакович М., заведующий кафедрой Истории КПСС. Двухметрового роста, он гремел, как иерихонская труба. Он требовал исключения недостойного и из партии, и из института. Когда он говорил, камни рыдали от его красноречия.