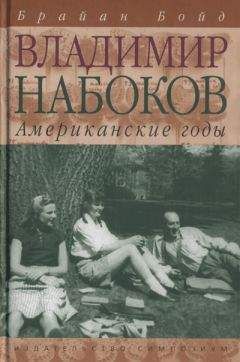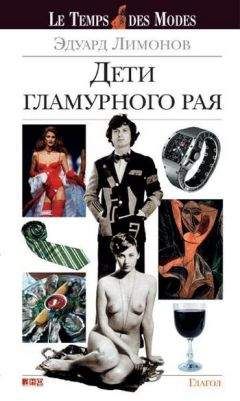Вадим Сафонов - Земля в цвету
«Зеленые друзья» — эти слова полны для нас смысла. «В защиту Друга» выступила Центральная газета. Нет «каменных пустынь» городов. Зелень — это отдых, это красота и здоровье. Высаживаются не саженцы, а сразу взрослые деревья, и улицы обращаются в тенистые аллеи. Где-нибудь в узком просвете между домами, совсем рядом с несущимися машинами вдруг расцветает живая радуга любовно разбитых клумб. Сколько требовалось прежде угрожающих надписей: «не срывать», «не ломать», «воспрещается», «штраф»! Сейчас забота о народном достоянии, о зеленом уборе городов, становится делом самих масс.
Уверенно можно сказать: нигде не бывало такого размаха в борьбе за зелень, нигде не придавалось такого государственного значения содружеству с природой.
А юные садоводы рапортовали: ими высажено на Украине 5 миллионов деревьев; в Ярославской области заложено 42 питомника на 100 тысяч саженцев; под Архангельском выведены яблоки не хуже алмаатинских; в Узбекистане собирают клубнику дважды в году; чоботовцы, инициаторы соревнования, окружили садами свою школу, и поросли молодых деревьев, ими посаженных, подымаются в соседних колхозах и вдоль сельских дорог. Корзины плодов с Урала, сорта, созданные наново молодыми, не по-детски умелыми руками, мичуринский виноград, который пробовали юные испытатели природы из Грузии и признали: «не хуже нашего», и украинский персик — о нем сообщил делегат из Кировограда.
Это настоящие, большие дела, и счастливо молодое племя, которое на заре своей жизни начало их, чтобы увидеть потом и завершение общего огромного, прекрасного дела — превращения необъятной страны в цветущий сад.
ЗЕЛЕНАЯ СТРАНА МЕНЯЕТ ГРАНИЦЫ
ХИБИНСКИЙ ХЛЕБ
Не было ничего нерушимее внешних границ Зеленой страны.
Таблицы Габерландта стояли на страже их.
Овсу требуется суммарно 1940 градусов тепла, чтобы созреть, ячменю — 1600, гороху — 2100, корнеплодам — 2500 градусов. Тут некого умолять, безнадежно просить о снисхождении.
В Хибинах, на Коле, куда ехал агроном из Ленинграда, сумма температур за весь возможный вегетационный период равнялась только 1135 градусам.
Конечно, он изучил, этот молодой эстонец, все, что могли поведать книги о той далекой угрюмой пустыне. Девяносто дней в году — без мороза, а если термометр держать на уровне почвы, то без заморозков наберется едва 55–60 дней. Он на зубок знал это. В его память врезалась жирная красная черта — она представлялась ему самодовольно разъевшейся, как преуспевающий бюргер, и почти, торжествующе отрезавшей в немецких таблицах Габерландта зерновые от Крайнего Севера. Абсолютный температурный предел!
И все-таки он ехал.
Что побуждало его?
Всегда важно и интересно проследить, в истоках ее, большую рождающуюся мысль.
Агронома мы назвали молодым. Но, в сущности, за плечами его уже был немалый жизненный опыт.
Иоганн Эйхфельд был эстонским крестьянином. Его детство, Деревенского паренька, закончилось в 1905 году. Старший брат участвовал в революционных волнениях. Вся семья оказалась под подозрением. Карательные отряды ворвались в деревню. Семейный очаг рухнул, Иоганн ушел из Эстонии. Бездомная молодость его была тяжела. Полицейское око всюду следило за ним. Он тянул лямку мелкого почтово-телеграфного чиновника с грошовым окладом, пока 1914 год не одел его в серую солдатскую шинель.
В тысяча девятьсот семнадцатом юноша впервые полной грудью вдохнул воздух, освеженный великой грозой. Как солдатский депутат, он попал в Питер. Вся жизнь Эйхфельда резко изменилась. Революция открыла ему доступ к знанию, о котором он страстно мечтал.
Он кончил Петроградский сельскохозяйственный институт.
Почему тянуло его именно к сельскому хозяйству? Может быть, это не требует объяснений: он был сыном крестьянина. Но хочется глубже и точнее понять человека.
Остзейские бароны в Эстонии сдавали крестьянам-арендаторам болота. Раскорчуй кривые заросли, мочажины, осуши, удобри, сделай плодородную землю из черной хлюпающей грязи и тогда ешь свой скудный хлеб. И эстонские крестьяне силой и властью терпеливого, неустанного труда совершали чудесное превращение. Не сами они, а владелец-барон пожинал плоды этого труда. Все же сеяли они хлеб в почву, созданную человеком, и не просто заставляли эти болота рожать, а украшали их: среди цветов, заботливо высаженных, стояли крестьянские жилища. Это — впечатление, которое выносит всякий, побывавший в эстонской деревне. И никогда никто — ни сорванец-мальчишка, ни случайный прохожий — не сорвет бестолку цветка, не испортит благоухающий расстеленный ковер, не сломает ветки сирени.
Эйхфельд знал все это не понаслышке. Это был быт поколений его предков, его семьи, то, с чем он вырос. И сам он ставит в связь с этим мироощущение своей молодости. Но чтобы созрело оно в сознательное мировоззрение, потребовалось и многое другое, помимо того, с чем послала его в жизнь эстонская деревня: нелегкие годы юности и раздумья о судьбе брата, присужденного к смерти, и прочитанные книги, смелые и светлые, об иной судьбе для миллионов людей, чем выпадавшая им в течение столетий, и воздух великой страны, где миллионы людей уже начинали строить эту новую судьбу.
А то, что его мировоззрение, сложившись в нем, стало всепоглощающим и повелительно определило все его существование, — это уже особенность его личная, эйхфельдовская.
Нельзя и несправедливо, чтобы человек был обречен жить на черном и бесплодном болоте.
Невозможно, чтобы оно одержало верх над человеком.
Я ищу более точного слова для обозначения той идеи и одновременно того ощущения, которое властно владело им: ненависть? Возмущение? Может быть, просто непризнание неустроенности земли; и вместе с тем уверенность во всемогуществе человеческого труда, которому суждено преобразить землю и создать красоту на ней.
В 1920 году Эйхфельд вместе с геологом профессором П. А. Борисовым поехал в Карелию. Едва треть земли занимали здесь нищие посевы. Две трети пустовали, заваленные валунами, ржавые от болотных мхов. Бедные деревни пугливо ютились на моренах.
Было голодно в стране в том суровом году. Республика жестоко сражалась с интервентами на фронтах гражданской войны. По городам и селам, по полям в бурьяне, по молчащим цехам заводов, по железнодорожным путям, где редко проползали медленные поезда с людьми на подножках, людьми на крышах, гуляла страшная гостья с именем, неведомым для тех, кто родился позже: разруха.
Но человек в Кремле, вождь страны, руководя борьбой ее не на жизнь, а на смерть, спокойно и твердо разрабатывал гигантские планы. То были планы обновления и могучего взлета. Гений этого человека с математической точностью знал, что планы эти, о каких никогда не смела мечтать романовская Россия, Россия «мирного», «изобильного» 1913 года, увидит осуществленными живущее поколение людей. Английский писатель-фантаст, кичащийся своей способностью предвидеть будущее и всесветно знаменитый этим, посетил годом позднее Москву и был ошеломлен этими планами. Он вышел из кабинета Ленина, кинув «мечтатель» иронически искривленными губами Уэллс не видел ничего, кроме «России во мгле».
Вот каким воздухом великих предвидений и свершений невозможного, ставшего реальностью, далекого, которое завтра очутится рядом, дышали лучшие люди того времени, поколение наших отцов.
Этим воздухом дышал и скромный, все еще ходивший в солдатской шинели студент Эйхфельд.
Эйхфельд подумал в Карелии, что можно сойти с гряд в низины и сделать родящей чернильно-черную и серую, как зола, землю. Здесь это было вполне возможно. Он знал это!
А дальше?
Он подумал, сколько есть еще неустроенной земли — от века неустроенной.
Земли, за которую никогда не решался взяться человек.
Пески — 68 миллионов гектаров. Тундры — 300 миллионов гектаров. Дореволюционные учебники равнодушно констатировали, что на 1/3 территории нашей страны залегает вечная мерзлота.
Крайний Север! Исполинское пространство, ограниченное линией, начинающейся за Полярным кругом, у финской границы, и протянутой до Тихого океана. Там эта линия падает к югу. В Сибири она касается шестидесятой параллели. На Дальнем Востоке нисходит даже до пятидесятой.
Надо отдать себе отчет: что же это такое? Десять миллионов квадратных километров. Значит, 48 процентов территорий страны приходится на эти северные области. Раз осознав смысл этого, Эйхфельд больше не мог забыть его.
Он любил книгу — сгусток опыта и разума человечества. Он старательно выискивал и изучал все, что относилось к истории Севера. Новгородцы в свои дальние северные владения — «пятины» — возили хлеб из Москвы: свой хлеб там не рос; Карамзин писал о «гробе природы». Но промышленники и рыбаки — те, что триста лет назад, поставив один прямой парус, гоняли свои кочи на Грумант[21] и в Мангазею, к устью Оби, а двести лет назад дали миру Ломоносова, — да, простые русские поморы доказали, что человек может жить и хозяйствовать в Заполярье.