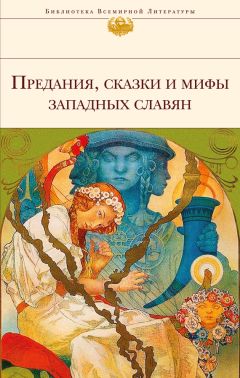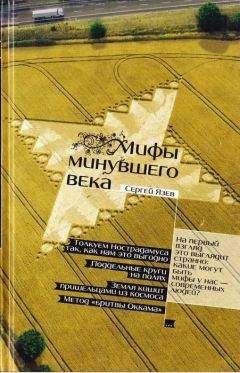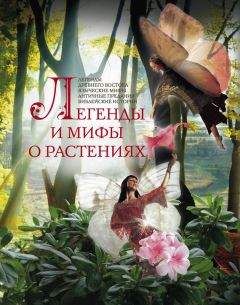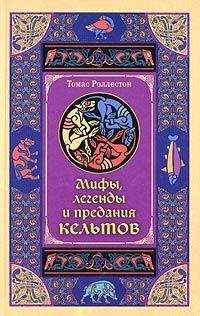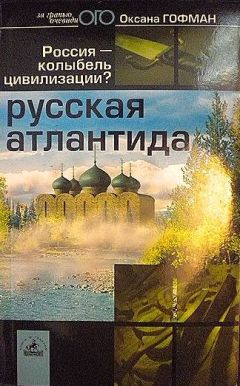Лев Минц - Блистательный Химьяр и плиссировка юбок
Человек, переселявшийся из Австрии (а она начиналась не так далеко от Жмеринки), мог получить фамилию Ойстрах — на идише «Австрия»; из Литвы (что включало Белоруссию, Смоленскую область и т. д.) — Литвак, Литвин, Литвинов; из Германии (сразу к западу от Варшавы): Тайц — «Германия» на идише, Ашкенази — «Германия» на иврите, Немчик.
Встречались просто не изменяемые названия городов в Германии: Ландау, Люцау, Лившиц, Берлин.
Особенно же много было фамилий по названиям профессий: Шнайдер, Шнайдерман, Портной, Портнов, Хайят — все от слова «портной» на разных языках; Шустер, Швец, Сапожник, Сапожников, Сандалар, Сандлер — «сапожник». Отдельно следует отметить только еврейские профессии: Меламед — религиозный учитель, Шойхет — резник, Шадхан, Шадхен — сват, Могел — мастер обрезания.
Для потомков раввинов добавлялось уважительное окончание «ович». Так и появилась прославленная в тысяче анекдотов фамилия Рабинович. Она считается уж настолько еврейской, что другой такой и не придумаешь.
И отсюда же следует, что ничего общего с еврейской традицией она не имеет, и окончание ее — самое что ни на есть славянское.
Если уж брать чисто еврейскую традицию, то это фамилии-аббревиатуры, в которых зашифрованы предки и их заслуги. К примеру, Кац. На первый взгляд — «кошка» по-немецки, а в действительности: «когенцедек» — праведник. «Зак» — «зэра кадошим» — «семя святых». «Маршак» — «морену рабену Шломо Клугер» — «учитель наш, господин наш, Соломон Мудрый» и т. д.
Хотя зачастую имена евреев, по крайней мере употребляемые в быту, не сильно отличаются от русских (хотя бы потому, что значительная часть русских имен заимствована из еврейского языка — Иван, Михаил, Гавриил, Мария и т. д.), тем не менее можно четко выделить набор имен, употребляемых евреями, и имен, ими не употребляемых. К примеру, трудно встретить еврея по имени Иван, Василий, очень редки — Петр, тем более — Святослав или Вячеслав (хотя чего не бывает!). Зато часты имена Лев, Григорий, Яков, Марк, Михаил, Александр. (Последнее заслуживает более подробного рассказа: оно появилось в еврейском антропонимиконе в 332 г. до н. э. Тогда в Палестину вошла армия Александра Македонского, который проявил подчеркнутое почтение Храму и священнослужителям его. И первосвященник распорядился, чтобы все мальчики, родившиеся в этом году, получили имя Александр, в простонародной форме «Сендер».)
Это связано не только с желанием, не выделяясь в массе именем, все же не выглядеть выкрестом — достаточно сильным в еврейской среде. Это связано со стойким обычаем давать новорожденному имя умершего близкого человека. То есть «шем кадош» совпадет полностью, а для «кинуй» достаточно совпадения «согласного скелета» имени. На иврите ведь пишутся только согласные. Совпадать могут даже не все согласные, но уж обязательно первые. К примеру, мальчика назвали Фридрих (дело было до войны, а имя ассоциировалось прежде всего с идеологически чистым Энгельсом), потому что умерла его бабушка Фейге-Рейзл. Причем обычай столь стоек, что его придерживаются большинство евреев, даже те, кто почти ничего не знает о нем и никогда не слышал выражений «шем кадош» и «кинуй».
Соответственно, ребенок не может получить имя отца. Еврей по имени-отчеству Михаил Михайлович — немыслим.
Впрочем, в миру — отчего бы нет, если он по паспорту, скажем, Моисеевич.
Все сказанное выше относится к ашкенази. В восточных группах, наоборот, нарекали ребенка именем живущего уважаемого человека.
Ни горские, ни бухарские евреи (как и окружавшие их мусульманские народы) фамилий не имели, и им давали их по простецкой схеме — по имени отца: Овадьяев, Ильягуев, Авшалумов, Иллизаров, Абрамов, Юнатанов и т. д.
В Грузии же в свое время евреев (и «татар» — азербайджанцев, и армян, и собственно грузин) именовали по отцу с добавлением «швили» — «сын».
А Голдене Медине
География евреев, насыщенная библейской терминологией и личным опытом, вполне удовлетворяла их. Но эпоха великих географических открытий не только расширила знания о планете, но и потребовала дать оценку новым континентам и странам. В XIX столетии умы и мысли евреев заняла еще недавно не такая уж известная страна под названием «Америке». Не то чтобы о ней вообще не знали в еврейских кругах! Боже упаси! Мало того, сам первооткрыватель, может быть, и был евреем, и в его команде евреев хватало, а финансировали экспедицию в неизвестное опять же евреи. В голландских и английских североамериканских колониях евреи появились достаточно скоро и даже приняли участие в войне за независимость. И еврейский компонент в истории США стал ощущаться с самого начала их открытия.
Но мы говорим о моменте, когда «американская идея» овладела умами широких масс в российской черте оседлости и австрийской Галиции и т. д., и т. п. Когда в каждой семье, говорящей на идише, появились родственники, обосновавшиеся за океаном и расписывавшие свое житье-бытье, совсем не такое, как в родной Касриловке. Разбогатевшие! Это последнее следует понимать буквально: не забывайте, что о богатстве рассуждали люди, покупавшие на шабес не целую селедку, а столько кусков, сколько было человек в семье. И для которых вода, льющаяся из стены (!), казалась фантастикой. И еще в Америке не было погромов…
Такая страна немедленно получила имя: как бы ее ни называли гои, для евреев она стала «а Голдене Медине» — «Золотая Страна», причем «золотая» — не в смысле «мощенная золотом». Нет, именно такая, как говорится, «шейне ви а голд».
«Открытие Америки» в российской черте оседлости и на сопредельных территориях — к примеру, в Галиции, что в стране Ойстрах, вызвало не только смятение в умах, но и большие надежды. В конце концов, Атлантический океан — тоже море, только очень большое. В идише появилось слово «шифскарте» — оплаченный заранее билет на пароход. И шадхены, сваты-профессионалы, уговаривая потенциальных женихов, говорили о будущем тесте и приданом:
— Дает за ней триста рублей, две шифскарты и козу. Но зачем вам коза при двух шифскартах? Вы же ее все равно продадите, это еще пять рублей…
Тогда же появилась песня и стала фольклорной: «А бривеле дер мамен» — «Мамино письмо». В ней мама пела:
«Ин штут Ну-Йорк, майн тайер зун…» — «В городе Нью-Йорке, дорогой сынок…». Далее перечислялось все, что сынок должен и не должен делать за океаном. И прежде всего: «А бривеле дер мамен золст ду ныт фарзамен» — «Не забывай маминого письма».
Если что-то попадает в фольклор, значит, это вошло в народное сознание. «А Голдене Медине» — вошла.
Первопоселенцы обосновывались в Америке. Для начала они брались за любую работу, и все казалось им раем — ганэйден — по сравнению с тем, что они оставили в России. Кстати, вопреки распространенному — и не только в нееврейской среде — убеждению, что эта работа была обязательно связана с коммерцией, начинали они, как правило, работать на фабриках готового платья. Фабрики эти основаны были тоже евреями, только приехавшими раньше, уже говорившими по-английски, но не забывшими и идиш. Последний был для них необходим, как орудие производства: без него они не договорились бы с рабочими, которые чаще всего никакого другого языка не знали (ну, может быть, ломаную смесь русского с украинским). А рабочие-единоплеменники необходимы были фабрикантам для получения прибыли, ибо никто другой не согласился бы работать за такие гроши по десять часов. В общем, все по Марксу — а клыгер ид таки гевен! Для не совсем понявших: умный таки еврей был, хоть и мешумед! Что значит — крестившийся.
Либеральные американские газеты того времени буквально кишели гневными статьями о бесстыдной эксплуатации еврейских рабочих на еврейских фабриках легкого платья. Не возмущались своим положением только еврейские портные, грузчики, возчики и прочие. Во-первых, они не умели читать по-английски. Во-вторых, им в голову не приходили такие глупости: эсплотацие-шмесплотацие!
Нет, об эксплуатации они не думали: дома — ин ланд фун Мумэ-Рэйзл (как вы поняли, в России) — о таких условиях многие и мечтать не могли. Заботы были о другом: научиться хоть кое-как говорить по-английски (почему-то в этой среде любили называть его тыркиш — турецкий: то ли от привычки на всякий случай все засекретить, то ли от воспоминаний о знакомых «турецкоподданных»), дать детям образование — и не такое, чтоб «Ду ю спик идиш?», а по-настоящему, выбиться из бедности (уже такой, как это понимали в Америке), начать свое дело.
Но ранее всего следовало перетащить в «Голдене Медине» всю мишпуху (это слово в еврейской среде объяснять не надо, скажем только, что происходит оно от ивритского «мишпаха», что значило «род»). Во-первых, чтобы чувствовать себя совсем дома — родни тогда у евреев хватало, а чтобы у кого-нибудь был всего один ребенок — кто такое видел? Ближайшими родственниками считались и двоюродные, и троюродные братья и сестры, а потом — ибр дер ям (за морем) — и все уроженцы одного штетла или какого-нибудь подкарпатского села. Вот вам, считай, целый нью-йоркский дом, а то и часть улицы!