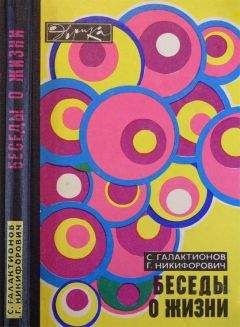Татьяна Иванова - Москва в жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова
Когда вернувшиеся из зарубежных походов молодые гвардейские офицеры горячо обсуждали современное положение России, наши юноши были еще совсем детьми. Но этот период высокого общественно-политического подъема, предшествующий восстанию 14 декабря, ярко запечатлелся в их памяти. Дети вслушивались в разговоры старших, чутким ухом ловили то, что взрослые хотели от них скрыть. Запрещенные стихи Пушкина и Рылеева переписывались и ходили по рукам. Стихи Пушкина распространялись по всей стране. Они играли в то время роль политических прокламаций, имели революционизирующее значение.
В святой тиши воспоминаний
Храню я бережно года
Горячих первых упований,
Начальной жажды дел и знаний,
Попыток первого труда.
Мы были отроки. В то время
Шло стройной поступью бойцов, –
Могучих деятелей племя,
И сеяло благое семя
На почву юную умов[287].
Так рисуется в памяти Огарева общественное настроение в эпоху формирования тайных обществ. Период надежд и высокого общественного подъема закончился трагической развязкой на Сенатской площади, казнью пяти декабристов, каторгой и ссылкой для остальных участников восстания.
Описание этих событий и то, как они преломились в сознании подрастающего поколения, мы находим у Герцена, Огарева и Лермонтова. Много лет спустя, оглянувшись назад, они рисуют яркие картины эпохи.
«Жизнь моя сложилась рано, и я долго оставался молод, – писал на склоне лет Герцен. – Воспоминания мои переходят за пределы николаевского времени; это им дает особый fond[288], они освещены вечерней зарей другого торжественного дня, полного надежд и стремлений. Я еще помню блестящий ряд молодых героев, неустрашимо, самонадеянно шедших вперед… В их числе шли поэты и воины, таланты во всех родах, люди, увенчанные лаврами и всевозможными венками… Я помню появление первых песен „Онегина“ и первых сцен „Горя от ума“… Я помню, как, прерывая смех Грибоедова, ударял, словно колокол на первой неделе поста, серьезный стих Рылеева и звал на бой и гибель, как зовут на пир…
И вся эта передовая фаланга, несшаяся вперед, одним декабрьским днем сорвалась в пропасть и за глухим раскатом исчезла…
В стране метелей и снегов.
На берегах широкой Лены.
Я четырнадцатилетним мальчиком плакал об них и обрекал себя на то, чтоб отомстить их гибель»[289]. «Казнь Пестеля и его товарищей, – говорит Герцен, – окончательно разбудила ребяческий сон моей души»[290].
Жизнь лучших представителей молодого поколения шла по пути, завещанному декабристами:
По их следам слагалась жизнь моя,
Я призван был работать для свободы
И победить иль величаво пасть… –
говорит герой поэмы Огарева[291].
Вдохновленные героическим примером декабристов, два мальчика – Ник Огарев и Шутка Герцен, убежав от отца и гувернера, на Воробьевых горах, перед расстилающейся едали Москвой, дают клятву не покидать заветного пути борьбы за свободу.
«Запыхавшись и раскрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горюй, свежий ветерок подувал на нас; постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу»[292].
Эпоха, наступившая после восстания 14 декабря, резко отличалась от предшествующей. Это были страшные годы, когда, по выражению Герцена, «Явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнем и голубым Бенкендорфом»[293].
В этих условиях подрастало новое поколение 30-х годов. Гнетущая, безысходная тоска лучшей части поколения 30-х годов особенно ярко выражена в стихах Лермонтова: «Жалобы турка» и «Монолог».
Деспотизмом Николая I были погублены многие студенты Московского университета: талантливый поэт Полежаев, братья Критские, Сунгуров и его товарищи.
«Опасность поднимала еще более наши раздраженные нервы, – вспоминает это время Герцен, – заставляла сильнее биться сердца и с большей гооячностью любить друг друга»[294].
Передовая молодежь жила в мечтах о подвигах. Она верила в свое «святое назначенье»
Свершить чредою смелых дел
Народов бедных искупленье…[295]
Юноша Белинский писал: «В моей груди сильно пылает пламя тех чувств высоких и благородных, которые бывают уделом немногих избранных…»[296] Герцен говорит, что он воображал себя «великим», «доблестным», а «будущее рисовалось каким-то ипподромом, в конце которого ожидает стоустая слава…»[297]
Палящий огнь сокрыт в груди моей,
Я напоен губительной отравой.
Во мне бушует вихрь страстей
И кто смирит его? –
Одна десница славы![298] –
писал юноша Станкевич.
Мечтами о подвигах, о славе и величии и в то же время мыслью о трагическом конце полна юношеская лирика Лермонтова.
К чему ищу так славы я?
Известно, в славе нет блаженства,
Но хочет все душа моя
Во всем дойти до совершенства[299].
В стихотворении «Отрывок» поэт рисует образ героя, который обдумывает план спасения своего народа. Очень вероятно, что это – лирическая вариация на задуманный им в то время сюжет поэмы о Мстиславе Черном, из времен татарского нашествия. Но переживания героя поэмы перекликаются с его собственными, так как в это время лирический, эпический и драматический герои Лермонтова очень близки друг другу.
Свой замысел пускай я не свершу,
Но он велик – и этого довольно:
Мой час настал; – час славы, иль стыда;
Бессмертен, иль забыт я навсегда…
Но, потеряв отчизну и свободу,
Я вдруг нашел себя, в себе одном
Нашел спасенье целому народу…[300]
Юноша – чувствует себя исключительной натурой, его жизнь должна быть отмечена какими-то особенными событиями. Борьба за общее дело, которая ждет его впереди, не может кончиться победой и неизбежно приведет к смерти или изгнанию. Он постоянно полон лихорадочной жажды деятельности и в то же время предчувствием неминуемой гибели.
«Странная вещь, что почти все наши грезы, – говорит Герцен, – оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда – торжеством»[301].
Когда твой друг с пророческой тоскою
Тебе вверял толпу своих забот.
Не знала ты невинною душою.
Что смерть его позорная зовет,
Что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет[302],
– писал Лермонтов.
Тема изгнания и кровавой могилы постоянно мелькает в его стихотворениях. Иногда образ этой могилы принимает конкретные черты северного пейзажа далекой Сибири:
Кровавая меня могила ждет,
Могила без молитв и без креста,
На диком берегу ревущих вод
И под туманным небом; пустота Кругом[303].
Двадцатилетний Огарев, сидя в одиночной камере тюрьмы, гадает по библии о том, что ждет его, и мечтает, чтоб ему вышло «по воле рока»:
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка[304].
Мечты юношей переплетались с образами из книг. Они вели беседы с любимыми героями, перевоплощались в них. Герцен звал Огарева Рафаилом, по Шиллеру, Огарев Герцена – Агатоном, по Карамзину. Книги если не заменяли, то дополняли им действительную жизнь.
Очень сильно было увлечение Шиллером. Высокие идеалы и гуманизм Шиллера близки юношам 30-х годов. Содержание драм Шиллера легко сопоставлялось с событиями 14 декабря. Благородный и смелый подвиг декабристов перекликался с поведением шиллеровских героев. Шушка Герцен с Ником Огаревым, беседуя о Шиллере, невольно обращаются к восстанию декабристов. «От Мероса, шедшего с кинжалом в рукаве, „чтоб город освободить от тирана“, от Вильгельма Телля, поджидавшего на узкой дорожке в Кюснахте Фогта, переход к 14 декабря и Николаю был легок»[305], – пишет Герцен.
Было и увлечение Байроном. Юноша Лермонтов, прочитав биографию Байрона, сопоставляет свою судьбу с судьбой поэта:
Я молод; но кипят на сердце звуки,
И Байрона достигнуть я б хотел:
У нас одна душа, одни и те же муки; –
О если б одинаков был удел!..….
– пишет Лермонтов, ставя после «удел» выразительное многоточие[306].