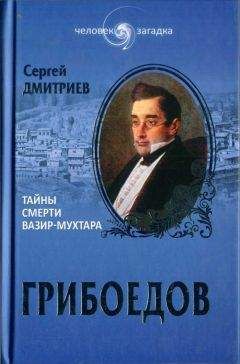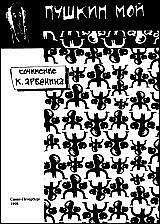Виолетта Гайденко - Западноевропейская наука в средние века: Общие принципы и учение о движении
Трансформация онтологических предпосылок влечет изменение трактовки смысла и цели человеческого существования. Поведение человека, осознавшего, что он сам по себе — ничто, что он находится в процессе непрерывного творения, будет совершенно иным, чем в том случае, когда он мнит себя существом, заключающим в себе основание своего существования и единства.
Находиться в процессе творения — это ежесекундно вновь рождаться в акте сопряжения двух начал: того, что вносит закон и порядок, и того, что составляет изменчивую основу всякого бытия. Оба начала — внутри человека; он есть не что иное, как непрерывный процесс их сопряжения. Если бог — это начало, вносящее закон и порядок внутрь изменчивого, то без бога нет человека. Но бог при таком понимании не есть нечто наряду с человеком, что-то отличное от него, — он внутри него, является одним из начал, творящих его бытие. Поэтому понятно, что только внутри себя можно обрести бога. Емкие и точные слова для выражения этого находит Августин в «Исповеди»: «И когда упорно в молчании искал я, безмолвные терзания души моей громкими воплями взывали к милосердию твоему… Все обращалось к слуху твоему, что я кричал от терзания сердца моего; пред тобой было желание мое, и света очей моих не было у меня (Псал., 37, 9—11). Ибо он был внутри, я же — вне. Он не в пространстве, а я обращался к тому, что занимает место в пространстве» [73, 213—214].
Допущение подобного рода онтологии объясняет многие специфические черты христианского учения о человеке, в частности необходимость постоянной молитвы. По христианским представлениям, душа, водимая вожделениями и помыслами, т. е. стремящаяся к тому, что преднаходится ею в сфере изменчивого, не только страдает, но буквально распадается, влечется в разные стороны своими противоположными стремлениями. Чтобы сохранить единство, человек должен устремиться к одному центру, к тому началу, которое является источником и гарантом единства. Это усилие, устремленность к Богу и есть молитва, и отсюда наставление «непрестанно молитесь» (I Фес, 5, 17), которое вслед за апостолом Павлом повторяют многие христианские писатели. Без такой устремленности к высшему началу не может быть достигнуто подлинное единство, ибо всякая связь, вносимая этим началом, тотчас была бы разрушена центробежными стремлениями души.
Таким образом, своеобразие христианского видения человека предполагает допущение особого рода онтологии, которую можно было бы охарактеризовать, в отличие от античной онтологии неизменных сущностей, как онтологию творения.
Онтологическая схема, «вычитываемая» из идеальной модели человека, утверждаемой в христианстве, важна прежде всего для прояснения принципиального отличия научного и религиозного подходов к осмыслению мира. Но не только для этого. В ее основе, как мы постарались показать, лежит определенная интуиция изменения. Конечно, она не могла быть просто перенесена из сферы религиозного сознания в науку. Но естественно предположить, что ощущение, вобравшее в себя опыт пребывания христианина ученого в одном из измерений духовного мира, склоняло к выбору определенного направления в другом. Интуиции, привнесенные христианством, не могли не повлиять на естествознание средневековья, на развитие его концептуального ядра — учения о движении.
Упомянутая онтологическая схема вынуждала к совершенно иной трактовке проблемы движения по сравнению с античной. Акценты существенно меняются: движение как таковое выступает на первый план, а вопрос о существовании чего бы то ни было устойчивого, определенного в мире оборачивается проблемой поиска начал стабильности не за пределами движения, а в нем самом. Это, конечно, только тенденция. Но, как будет показано в дальнейшем, развитие средневековой физики шло именно в этом направлении: от постулирования неизменных причин всякого изменения ко все более адекватному концептуальному схватыванию процесса движения путем выявления принципов, упорядочивающих его, т. е. формулировки законов движения.
1.2. Истоки схоластического мировоззрения: трактовка Августином проблемы веры и разума
Среди десятка фраз, всплывающих в памяти, когда речь заходит о средневековье, как правило, встретится и суждение о философии как служанке богословия. Ее обычно приводят для иллюстрации подчиненного положения философии, как и любого рода интеллектуальной деятельности, в эпоху господства религиозных догм, сковывавших свободные поиски истины. В этом видится одна из основных причин, тормозивших развитие философской и научной мысли; необходим был творческий порыв Ренессанса, чтобы освободиться от пут авторитарного мышления.
Однако для средневекового человека принадлежащая перу Фомы Аквинского формула, отводившая разуму вспомогательную роль в решении проблем, с которыми сталкивается религиозное сознание, звучала иначе, чем ее воспринимает ухо нашего сциентистски ориентированного современника. Она подводила итог длительным размышлениям и спорам о том, подобает ли человеку тратить время на деятельность, как будто не имеющую прямого отношения к делу, единственно осмысленному, с точки зрения христианского вероучения: попечению о спасении своей души. И ответ Фомы, если его вписать в систему ценностей той эпохи, означает, что познавательная деятельность была признана не только не противоречащей высшим целям, провозглашаемым Священным Писанием, но и способствующей их достижению. Тем самым она получала статус одного из путей, ведущих к богопознанию. Поэтому престиж разума в средние века был столь же высок, как и в век Просвещения, но только разума — помощника в делах веры, а не верховного судьи, выносящего вердикт относительно того, что есть Истина.
Все это заставляет пристальнее всмотреться в смысл каждого из терминов оппозиции «вера — разум», в котором они употреблялись в «ученой» (философско-теологической) литературе средневековья, т. е. в трудах мыслителей, сделавших как веру, так и разум предметом рефлексии[32]. Принципиальные моменты, определившие их трактовку на протяжении всего средневекового периода, были сформулированы Августином.
В его работах бросается в глаза сочетание напряженного духовного поиска, завершившегося обращением блестящего римского ритора-язычника в христианство, с ярко выраженным стремлением к интеллектуальному постижению истин веры. В ранних сочинениях Августина способность к научной деятельности рассматривается даже в качестве наиболее убедительного аргумента в пользу одного из центральных тезисов христианского вероучения — бессмертия души. Во второй книге «Монологов» (387 г.) приводится следующее рассуждение: «Если все, что существует в субъекте, продолжает всегда свое существование, то необходимо будет продолжать свое существование и сам субъект. Но всякая наука существует в субъекте, в душе. Следовательно, если наука всегда продолжает свое существование, необходимо, чтобы продолжала свое существование и душа. Но наука есть истина, а истина …пребывает всегда. Следовательно, душа пребывает всегда…» [4,283—284]. Благодаря сопричастности разуму, а через него — истине душа как бы прилепляется к неизменным первоосновам всего сущего (см.: О бессмертии души [4, 311]). Разумная деятельность рассматривается поэтому как синоним духовности (см.: Об учителе [4, 465]).
Столь высокая оценка разума объясняется не только влиянием Платона и неоплатоников на формирование теологической доктрины Августина[33]. Мотивы, побудившие Августина обратиться к миру платоновских идей и математических сущностей ради осмысления основных моментов христианского вероучения, раскрываются в его «Исповеди» (400 г.). Августин рассказывает, с каким трудом он пытался преодолеть свойственное языческой религии представление о боге как о телесном существе, сделать для себя очевидным одно из основных противопоставлений христианского мироощущения: «плотское — духовное». «Я не мог представить себе иной сущности, кроме той, которую видели мои глаза» [3, 125], т. е. заключенной в телесную оболочку (см.: [3, 117]). Чтобы отрешиться, как того требует христианство, от привязанности к предметам внешнего мира и погрузиться в мир внутренний, необходимо сосредоточиться на том, что не относится к вещам «мира сего». Но как обратиться к чему-то иному, если то, что мы представляем, мы представляем занимающим определенное место в пространстве и времени, т. е. в виде телесной сущности. Вот проблема, мучившая Августина. Отметим, что внутреннюю сосредоточенность, к которой призывает христианство, он отождествляет с той сосредоточенностью, которая появляется у человека в момент созерцания какого-либо объекта. Поэтому для него так важно найти то, что может быть созерцаемо и в то же время — нетелесно.
Говоря современным языком, Августин хочет убедиться в существовании наряду с обычными объектами объектов идеальных, которые, с одной стороны, были бы доступны созерцанию (представлению), а с другой — принципиально отличались бы от обычных объектов. И он находит их в сфере математики и в царстве платоновских идей. Их неизменность, пребывание в мире, определяемом не течением времени, а вневременными основоположениями логического и математического знания, высшая степень очевидности и убедительности истин последнего указывают на «трансцендентность» их характеристик, контрастирующих со свойствами объектов, познаваемых с помощью телесных органов чувств. Платоновская дихотомия чувственно воспринимаемого и умопостигаемого кажется Августину подходящей для разъяснения сути евангельского противопоставления плоти и духа. Вот почему так высока его оценка (особенно в ранних работах) математического знания. Оно «упражняет душу, подготовляя ее к созерцанию более возвышенных предметов… доставляет доказательства… самые точные: так что когда при помощи их бывает что-либо найдено и доказано, то, насколько подобное дано исследовать человеку, сомнение делается бесстыдным. Ибо я в этих вещах сомневаюсь менее, чем в тех, которые видим мы этими глазами, вечно ведущими войну со слизью» [4, 354].