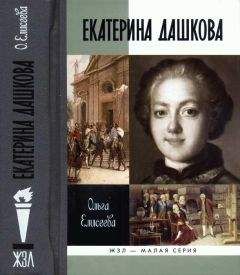Ольга Елисеева - Бенкендорф. Правда и мифы о грозном властителе III отделения
Словом, "я с головы до ног презираю свое отечество", но хочу в нем первенствовать. Кислых сливок Александр Христофорович не пробовал? Или, служа курьером, по родным ухабам не ездил?
Но где ему, "бродяжному иноземцу", понять, что такое любовь-ненависть к своей стране? Трагическая разорванность, когда голова в Европе, а тело и иногда сердце — в России?
Или доказывать, будто он русский? Он немец. Русский немец. Дьявольская разница. Когда впервые это понял? Еще в детстве. Родителей выслали из Петербурга, где оба служили в свите великого князя Павла Петровича. Отец долго не мог найти службу. Наконец, пристроился в Баварии, в Байройте. Сына отдали в городскую школу. Дети всегда бьют новичков. Приехал из России, говорит на немецком не по-здешнему. Стали дразнить "русским". Он сколотил кампанию из таких же бедолаг и задал обидчикам трепку. А в мемуарах писал, что "заставил уважать имя своей нации".
Своей нации. Когда вам один раз с кровавыми соплями объяснят, что вы русский, вы этого уже не забудете.
Так что поаккуратнее с "бродяжными иноземцами".
"ОТНЮДЬ НАМ, БРАТЦЫ"Бенкендорфу Вяземский так не простил. Уже в 1865 г., когда Александра Христофоровича почти два десятилетия не было в живых, написал эпиграмму: "Был генерал он всероссийский,/ Но был ли русским? Не скажу".
"Русским" во вкусе князя Петра Андреевича, конечно, не был. А стоило?
После победы над Наполеоном сестре Долли[6] писать из Лондона: "Какое счастье быть русским!" Тогда, в овеянной их славой Европе, все так считали. А попробуй-ка в отступлении…
После Аустерлица и Тильзитского мира Бенкендорф в 1807 г. был направлен в составе русского посольства в Париж. Их заставили смотреть, как возвращалась во французскую столицу гвардия победителей и несла с собой опущенные знамена побежденных. "Прошло уже тридцать лет, а я не могу забыть того тягостного чувства", — позднее написал Александр Христофорович.
В юношеском стихотворении Пушкина "Наполеон на Эльбе" есть картина, когда народы "робко" вступают под власть диктатора, "знамена чести преклоня". Оказывается, чувства, охватывавшие наших героев, могли быть и сходными.
Но Вяземский испытывал другие. "Эх да, матушка Россия! — писал Александру Тургеневу — Попечительная лапушка ее всегда лежит на тебе: бьет ли, ласкает, а все тут, никак не уйдешь от нее". При этом князь был убежден в своем бессмертии для потомков: "Что ни делайте, не берите меня за Дунай, а в каталогах и в биографических словарях все-таки имечко мое всплывет, когда имя моего отца и благодетеля Александра Христофоровича будет забыто, ибо, вероятно, Россия не воздвигнет никогда пантеона жандармам".
Никогда не говори "никогда". Тем более в нашем отечестве.
24 апреля, когда ждать было уже нечего, Пушкин и Вяземский отправились гулять в Петропавловку. День был ветреный. Досада трепала обоих.
Ругали правительство за то, что их не берут на войну. Еще больше Бенкендорфа с его холодно-вежливой манерой отказов. Оба были оскорблены выше всякой меры. Душа навыворот.
Слезы из глаз. И то и другое горькое говорили о вечном. О Петре. О "наших", которые здесь… которых здесь…
Остатки ледяного крошева все еще бились о стены. По гребню шел крестный ход. Оба хвастались друг перед другом атеизмом, и оба, не сговариваясь, пристроились сзади, шли с опущенными головами, крестились.
С Финского в полнеба двигалась туча. Синяя, низкая, тяжелая. Град ударил внезапно, когда из-за реки еще лупило солнце. Стучал по камням, по лицам, по золотым окладам икон, по шелку хоругвей.
Увидели страшное место. Отстали от хода, спустились в ров, где из земли еще торчали остатки деревянных столбов, два года назад поддерживавших виселицу. Вяземский достал перочинный нож и стал отколупывать от пеньков щепки. По пяти для каждого. На память.
Заговорщиков не оправдывали. Однако и правительству надо же иметь хоть начатки совести. Накануне князь Петр завершил стихи, под каждой строчкой которых мог бы подписаться и друг:
Казалось мне: теперь служить могу,
На здравый смысл, на честь настало время
И без стыда несть можно службы бремя,
Не гнув спины, ни совести в дугу.
И с дуру стал просить я службы. — Дали?
Да! Черта с два!
Летом Вяземский, вняв уговорам Жуковского и Пушкина, решил объясниться, не с Бенкендорфом — этого в упор не замечал, — а с государем. Написал императору "Исповедь", где осветил причины своего расхождения с правительством Александра I и объяснил, чем именно он будет полезен новому государю: "Мог бы я по совести принять место доверенное, где… было бы более пищи для деятельности умственной, чем для чисто административной или судебной… Желал бы просто быть лицом советовательным и указательным, одним словом, быть при человеке истинно государственном — род служебного термометра, который мог бы ощущать и сообщать".
Вопрос об ответственности даже не вставал. "Исповедь" замечательна иерархией, которую выстроил обиженный Рюрикович. Он разговаривал с императором даже не на равных, а как более знатный дворянин с менее знатным. Удивительно ли, что в условиях войны и постоянных переездов Николай I не отвечал целый год? Не захотел он говорить в подобном тоне и позже. Дело Вяземского не сдвигалось с мертвой точки, пока тот не обратился с формальной просьбой.
Оценим мрачноватый юмор государя: "термометр" был послан не в III отделение, которое занималось как раз обзорами общественного мнения и на которое намекал князь словами: "Ощущать и сообщать", а в Министерство финансов. Последним руководил Е.Ф. Канкрин — опять немец, доктор права, генерал, граф, отъявленный трудоголик, всего добивавшийся сам и обеспечивший серебряное содержание рубля. Егор Францевич, конечно, полюбил беседовать с Вяземским, но работой его не обременял, понимая, что князей не впрягают в воз с государственными бумагами.
Обчелся я — знать не пришла пора,
Дать ход уму и мыслям ненаемным.
Вот так, отнюдь нам, братцы, людям темным
Нельзя судить о правилах двора.
Внесенное в текст "отнюдь" из письма Бенкендорфа показывало, на кого негодует Вяземский. Тем временем Пушкин тоже рвался и рвал душу. К Языкову писал:
Оставить был совсем готов
Неволю Невских берегов…
…Схватили за полу меня,
И на Неве, хоть нет охоты,
Прикованным остался я.
Петербург, прежде такой желанный по сравнению со "спесивой" Москвой, теперь являл "дух неволи, стройный вид". А Языков жил в Германии, избавленный от "сиятельного чванства". Нетрудно догадаться чьего.
Полно, да было ли чванство? И с чьей стороны?
СТРАСТИ ПО МАРКУ АВРЕЛИЮВдали от столицы, оставив "интриги по ту сторону фрунта", Александр Христофорович мог бы благоденствовать. Но придворные "камеражи" — слухи и каверзы — не отставали.
Случались страшные оказии. В прошлом, 1827 г. пришел форменный донос на генерал-губернатора Одессы М.С. Воронцова — брата Михайлу. С этой бумажкой разбираться пришлось не один месяц.
Император поставил к донесению 60 вопросов. Обвинения были серьезны. Разорил город. Нарыл колодцев, из которых, вместо воды, идет грязь. Замостил улицы дурным камнем, который на другой год начал крошиться. Пустил казенные деньги на акционерную компанию по перевозке товаров из Константинополя. Все равно что украл!
Пояснения, которые Бенкендорф давал спокойным, будничным тоном, заставляли императора и самого глядеть на дело проще, без сердца. Вот беда — Николай Павлович не мог. Во всяком случае, сразу. Потом, через час-два, лучше по прошествии ночи, чаще бессонной, отпускало. Начинал мыслить свободнее. Точно расстегивал воротник. Дышал ровнее. А сразу… нет. не получалось.
Когда его величеству было пятнадцать, ему задали написать сочинение на "Похвальное слово Марку Аврелию". Он прочел и преисполнился жалости, даже до слез. Долг повелевает монарху действовать при отсутствии точных сведений. Вслепую, Неизбежны ошибки, обиженные люди, чьи-то судьбы.
Все это они уже проходили в Следственном комитете. Но зачем же "в отсутствие точных сведений"? Скоро поход на юг. Император сам все увидит в Одессе…
Николай I не любил откладывать решения, они его мучили. Но с годами все чаще обнаруживалось: скорость — сестра неведения. С Воронцовым вышло, как Бенкендорф и предрекал. Когда шеф жандармов в Одессе сказал другу про донос, у того руки затряслись. Прошлый государь его не любил. И бил больно. Теперь новый начал?
Новый был мрачен. Сразу при встрече выразил недовольство. И сам поехал проверять. Пробовал воду из скважин. Кивал: жаль, глубже пока не можем. Топал по тротуарам. Диабаз — тяжелый камень. А ракушечником мостить не годится. Под городом рыть не стоит, дома осядут. А если разбирать остатки старого турецкого замка Хаджи-бея? Уже жители растащили на дома? Шустро.