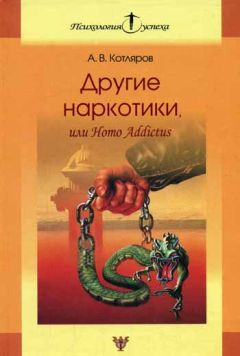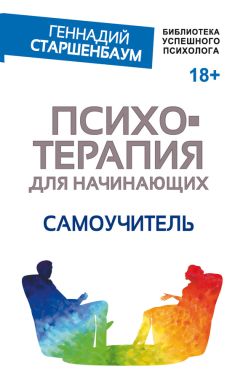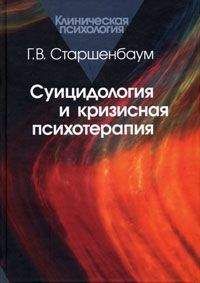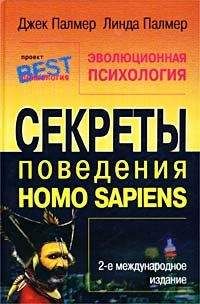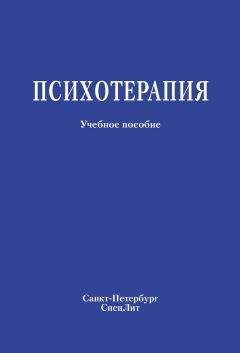Геннадий Старшенбаум - Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей
Основной составляющей терапии является этап тренинга навыков адаптивного общения. На этом этапе используются проясняющие вопросы, корригирующие замечания, обучающие техники. Большое значение придается невербальным приемам, в частности «семейной скульптуре». Например, глава семейства взял на себя слишком много обязательств. Семье предлагают:
– Чтобы вы полностью прониклись ситуацией, попробуйте разыграть ее. Отец устойчиво встает посреди комнаты. Мать берет его за правую руку, старший ребенок – за левую; средний обнимает за талию, младший – со спины. Теперь каждый осторожно, легонько потянет на себя и застынет в этом положении. Через несколько секунд отец почувствует себя растянутым во все стороны, ему станет неудобно, он будет на грани потери равновесия. Зависимый член семьи становится на колени и униженно протягивает руки к стоящему на стуле, как на пьедестале, «тирану» с указующим вниз перстом или сажает его себе на шею. Созависимые супруги душат друг друга в объятиях, «отстраненного» родителя помещают в угол и т. д.
В рамках структурной семейной терапиифокус делается на образцах и формах внутрисемейного взаимодействия, распределении власти, модусе принятия решений, границах, близости членов семьи и дистанции между ними, альянсах, сговорах, ролях, правилах, сходстве и взаимном дополнении. Тщательно разрабатывается план работы, предусматривающий разнообразные воздействия на семью.
Вначале терапевт определяет, кто в семье лидер, кто сублидер – «рупор семьи», кто идентифицированный пациент (чаще – ребенок, выделенный семьей в качестве семейной защиты). Если в семье есть явный лидер, терапевт обращается к другим членам семьи через него. Затем терапевт присоединяется к семье, устанавливая конструктивную дистанцию, подражая их речи, используя понятия, отражающие доминирующие анализаторы того или иного участника. Терапевт говорит с родителями на языке ответственности, с детьми – на языке отстаивания прав; с общительной семьей он общителен, со сдержанной – сдержан.
Входя во временный альянс с одной из семейных субсистем (родителями или детьми) терапевт на какое‑то время отдает все свои силы, авторитет и власть данной группе или члену семьи. Укрепив эту субсистему, терапевт может осуществить альянс с другой субсистемой. Присоединение терапевта к субсистеме способствует укреплению партнерских связей между ее членами и границ субсистемы внутри общей семейной системы.
Присоединение к субсистеме также помогает терапевту перераспределить власть в семье, разрушить треугольники, проявить больше гибкости при маневрировании внутри семейной системы, установить адекватные границы между субсистемами. При этом надо учитывать опасность неосознанной идентификации с одним или несколькими клиентами против других – «встать на сторону одной субсистемы», а также то, что именно так может воспринять присоединение к субсистеме семья.
Терапевт играет роль человека директивного, эмпатичного и отстраненного, но включенного в контекст семейных отношений в качестве одного из его элементов. Он подталкивает семью к определенным действиям, дает указания, прибегает к ролевой игре, по‑разному рассаживает членов семьи. Это позволяет ему воочию наблюдать функционирование семейной структуры в различных условиях, а семье – осознавать и изменять свои реакции на внешние воздействия.
Структурные ходы терапевта перераспределяют членов семьи таким образом, чтобы поддержать нуждающиеся в этом субсистемы и укрепить границы между поколениями. Разрушаются внутрисемейные альянсы, поддерживающие дисфункциональность семейной системы, родители освобождаются от излишней вовлеченности в жизнь детей, а дети – в жизнь родителей. Между родителями возникает единство, их действия становятся более согласованными. С помощью инструкций и домашних заданий терапевт перекраивает внутрисемейные границы, ослабляя слишком жесткие и укрепляя слабые. Например, воровство мальчика связано с недостаточным вниманием родителей к нему. Мальчику дается инструкция воровать у отца, что переносит симптом в семью и мобилизует родительские функции.
В стратегической семейной терапииосновную методическую роль играют директивные вмешательства терапевта, четко определяющие, что члены семьи должны делать, как во время сессии, так и за ее рамками. Главное назначение директив – изменение тех способов, посредством которых члены семьи устанавливают отношения друг с другом и с терапевтом. Кроме того, директивы позволяют узнать реакцию участников терапии на инструкцию. Директивы повышают включенность терапевта в жизнь семьи, вынуждают ее членов взаимодействовать между собой, давая больше информации о структуре семьи и ускоряя процесс изменений.
Директивы направлены на то, чтобы воссоединить первоначально разобщенных членов семьи, содействовать согласию между ними и доброжелательному настрою, усилить позитивный взаимообмен, помочь семье выработать более эффективные правила, лучше соблюдать границы между поколениями, позволять больше автономии своим членам и поддерживать их в достижении индивидуальных целей.
Дж. Браун и Д. Кристенсен (2001) приводят примеры прямых директив. Женщине, которой трудно было начать самостоятельную жизнь отдельно от матери, предложили без предупреждения навестить мать и завести с ней разговор с целью вызвать ее неодобрение.
Матери, которая не работала и чрезмерно опекала сына, предложили устроиться на работу. Молодому неработающему мужчине, много времени проводящему дома, предложили 4 часа в день уделять поиску работы. Разведенной женщине посоветовали включиться в работу группы для разведенных. Паре, которой трудно было отделиться от родителей, предложили во время сессии спланировать свой переезд и на следующей неделе посвятить в свои планы родителей. Родителям, которых беспокоило частое посещение дочерью развлекательного центра, посоветовали сходить туда «на разведку».
К. Маданес (1999) описывает работу с созависимой семьей, иллюстрирующую применение прямых директив. Мать четырех детей – в прошлом наркоманка, а ныне религиозная фанатичка, жестко наказывала своих детей – семилетних братьев‑близнецов, страдавших недержанием кала, который они рассовывали по щелям в стенах квартиры. Они мочились в окно, устраивали поджоги в доме, поджигали колыбель с младенцем, фургон на улице. Маданес посочувствовала матери, которой «достались» такие трудные дети и выразила восхищение ее готовностью всегда объясняться с ними начистоту. Одновременно она оценила поведение детей как своеобразную заботу о матери, которую настолько поглотили созданные ими проблемы, что ей самой уже не требовался надзор со стороны полиции. Когда мать расплакалась, Клу велела Роберту, более агрессивному близнецу, крепко обнять и поцеловть мать, вытереть ее слезы и пообещать позаботиться о ней. Мальчик выполнил требование терапевта со всей нежностью, на которую был способен, и несколько минут не выпускал мать, обнимал, а она ласкала его. Работа с семьей продолжалась 10 месяцев, но уже после этой первой встречи главные симптомы у детей исчезли, и мать больше не проявляла к ним жестокости.
Дж. Браун и Д. Кристенсен (2001) приводят примеры парадоксальных заданий из своей практики. Гордой своей независимостью матери‑одиночке, препятствующей самостоятельности своего сына, предложили делать для него еще больше, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Мальчика, который часто «закатывал истерики», попросили продолжать это делать, но лишь в определенной комнате и только после школы, когда он действительно ничем не занят. Жене, которая собиралась бросить мужа, но никак не могла это сделать, предложили остаться с мужем на том основании, что он нуждается в ее заботе. Женщину, которая страдала депрессией, попросили ежедневно в течение часа сидеть в одиночестве и предаваться унынию. Ей сказали, что управлять своим настроением можно лишь в том случае, если она научиться «включать» и «выключать» депрессию.
Супруги, склонные часто ссориться, должны были продолжать это делать, чтобы больше общаться друг с другом. Девушку‑подростка, которой было трудно начать самостоятельную жизнь отдельно от матери, похвалили за то, что она жертвует собой, защищая мать от жестокой реальности. Страдающую депрессией девушку попросили имитировать подавленность, при этом родителям надлежало поощрять наиболее яркие проявления ее депрессии. Матери, которая постоянно беспокоилась о своем сыне, посоветовали ежедневно в течение часа сидеть в одиночестве и волноваться. В течение этого часа ничем другим заниматься было нельзя.
☺ Я могу управлять Соединенными Штатами и могу управлять своей дочерью Эйлис, но я не могу делать то и другое одновременно.